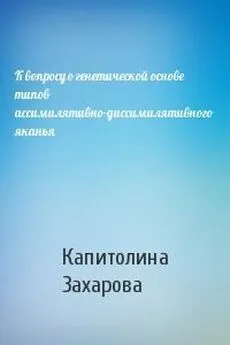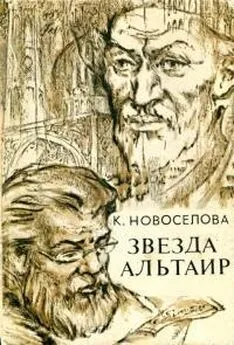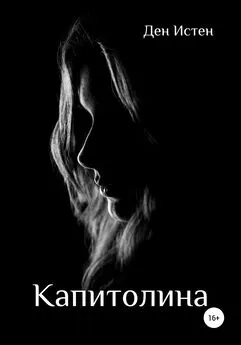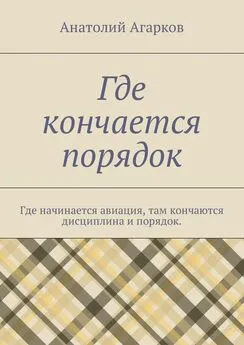Капитолина Кокшенева - Порядок в культуре
- Название:Порядок в культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Капитолина Кокшенева - Порядок в культуре краткое содержание
Капитолина Кокшенева — не просто критик, но исследователь, и не просто исследователь, но поисковик. В основе ее творческого метода — отнюдь не бесстрастный анализ происходящего в искусстве, но заинтересованный поиск того, что поможет человеку обрести животворную связь с историческими судьбами своей страны. Поиск сил, что в конечном итоге свалят с русской культуры саркофаг, старательно натягиваемый на неё ревнителями трупного модерна и «универсальных ценностей». Новая книга Капитолины Кокшеневой исследует современную прозу, кино, театр, живопись и дает ответы на самые жгучие вопросы нынешнего культурного бытия.
Порядок в культуре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В современной народолюбивой литературе, пожалуй, сохранно, прежде всего, чувство, что «всё против народа» или иначе: «до народа нет дела никому». А потому им, некоторым, неловко и совестно пройти мимо той жизни, которая доступна их писательской оптике, и которая, естественно, проигрывает тем стандартам письма, которые востребованы как рынком, так и «элитным» читателем, с его вниманием к интеллектуализму. Рядом со стремлением нагрузить литературу сложными интеллектуальными комплексами (я не против и такой литературы) вырастает (словно «от противного») та простота языка и изобразительности, которая характерна для почвенной народолюбивой литературы (она есть в рассказах Бориса Агеева, Лидии Сычевой и Михаила Тарковского, Андрея Антипина, Анны и Константина Смородиных). Она составляет суть прозы и Татьяны Соколовой. Народная ветвь русской литературы, конечно, не может рассматриваться как некая сумма имён «сильных авторов» с коллективной эстетикой. Но мне всегда интересно иное: в каждом авторе увидеть то, что им защищается в качестве своей личностной нормы, связанной скрытыми нитями с реальной нынешней жизнью русского народа.
Быть могильщиком народной жизни, бесконечно скорбеть о её угасании, безнадёжной однобокости, кривизне и неправильности, увы, значительно проще, чем увидеть в народе самодеятельные творческие силы.
Татьяна Соколова пробует свой путь: как и у её коллег, многие её герои помнят человека советского в себе, помнят время, когда социализм человека вроде бы и поднял высоко, да как-то слишком быстро и предательски бросил оземь: «Страна тогда была ещё большой, вместо имени у неё была скрежещуще-шипящая абревиатура, и о том, что имени она лишила себя сама, а весёлых поездов у неё никогда не было, будет написано много позже» («Дурочка»). В рассказах писательницы остался этот след времени — когда вдруг все почувствовали в себе угасший личностный дух как нечто уже забетонированное в жизни, надолго исключенное из неё. Придавлен стал русский народ, будто поломался в нём некий самозаводящийся механизм: личное и народное словно больше и не сообщаются внутри одного человека. И личное не вырастает в нечто существенное, а народное — замусорено, загажено, оскорблено: «Да пропади оно всё пропадом! Всё равно ничего не изменишь. Не было в этом мире правды и не будет» («Деревенский этюд»). Но «пропащесть» здесь, нежелание жить вот этой навязываемой жизнью — не от уныния и безразличия, но, напротив, именно от того, что сердце знает «как надо», как надлежит жить человеку!
Аполитичность, отчасти анти-социальность героев Татьяны Соколовой очевидна: бесцветная серость неидеологического государства эхом отзывается в людях, лишенных смысла, силы надежды, наделенных отнюдь не бунтарским сознанием, поскольку привычка трудно жить и всегда много трудиться не оставляла время на вникание в какие-нибудь там оттенки бумажной жизни бесконечно меняющихся партийных программ. Та внешняя жизнь, которая освободила каждого и всех вместе от каких-либо обязанностей, но и от всех ограничений, кажется, не имеет никакого целеполагания. Не нужно строить государство (пусть это кто-то делает в столице), не нужно следовать императивам полезности и труда (это не дает реального жизненного фундамента, трудом ничего заработать нельзя, кроме пропитания простейшего), но тогда остаётся одно — выпасть из современного мира. Выпадающие из мира герои — это и есть, по преимуществу, герои Татьяны Соколовой: «Притворившиеся с вечера мёртвыми, знакомые всё-таки, а раньше, совсем недавно, живые и тёплые, предметы и вещи будто зажили уже своей, холодной, беспощадной, какой-то оборотной жизнью, словно Виталя был теперь чужой для них, посторонний и даже враждебный человек. Ему захотелось закрыть глаза и бежать отсюда, бежать!» («Идите»).
И эта череда «выпадающих из мира» героев (и уж не выпадающего ли из истории народа?) была бы неправильна, неправедна и даже страшна, если бы писательница не знала о правильности жизни (правильном её ходе) или не показывала этого читателю и не сравнивала своих героев с идеальным в этой вечной правильной жизни. А она может, например, посвятить рассказ одному-единственному: сиротству сына без отца («Такая была жара») и описывает чувство потери отца (который банально бросил первую семью, найдя «счастье» с другой женщиной) как вполне апокалипсическое, конечное для мальчика. Он ждёт отца с такой силой, решительно не желая принимать никаких доводов и аргументов взрослых, что высвечивается сквозь это упорное ожидание какая-то древняя библейская правда. Отцовство есть главнейшая вещь на земле, и верность сына убившему в себе это отцовство мужчине, читается как взрыв вообще всех жизненных оснований. Мальчик «хотел одного: пусть бы всё в этом мире исчезло, а отец бы вернулся. Наверно, потому, что отец и был для него этим миром».
Большинство героев книги не позиционированы как люди убеждённо верующие, но при этом все они приемлют этот мир (даже и выпадая из него) как мир Божий. А потому всё главное в рассказах Татьяны Соколовой происходит внутри — в душе героев. И в этом смысле она следует основному «коду» русской литературы, её христианской ветви — где душа всего дороже. Татьяна Соколова будто бы следит за тем, как происходит умножение (нарастание) или растрата (часто какая-то даровая, «ни для чего») души в героях. Самобытие человека и самобытие народа не есть что-то статичное. Но дух человеческий — это главный первоисточник нашего творения жизни: « До самого вечера Саня Смирнов так и не пришёл в себя. Ему казалось, он до сих пор лежит, придавленный вонючим хламом в полуподвальной комнатёнке. А у парадной двери музыкальной школы суетится кто-то вроде плюгавенькой собачонки, повизгивает, виляет куцым хвостом, неразумный, растерявшийся, сам просящий заклания, минутами падающий на скрюченный хребет, выставив кверху с обломанными когтями кривые лапы, обнажив мягкий голый живот. На самом деле ничего этого конечно не было….» («Душа в законе»). Татьяна отыскивает душу под лохмотьями и под хламом. Она сосредоточенно прислушивается к тем малейшим, еле ощутимым колебаниям, что могут вдохнуть в человека надежду и способность восстать из под самого хлама, из самой низины низости.
Часть рассказов книги — это неторопливое накопление жизни вокруг её центра. Что и кто этот центр? Строительство дома? Рождение ребёнка? Я вижу, что в центре нет мужчины, каким бы привлекательным он ни был изображён: «Этим сжатым спрессованным пламенем Филиппович проходил и по улицам города. Невозможно было не заметить его среднего роста фигуру, характерную, словно бы по огню, походку, смуглое с большими пылающими глазами лицо, чёрную, как уголь, шевелюру, тяжело спадающую на широко развернутые плечи» («Пламенея, сгорая»). Мужчина у автора, как в этом рассказе, бывает и импульсивен, физически яростен, но чаще всего он сломлен — сломлен непомерно жестокими обстоятельствами и вытесненностью на периферию жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: