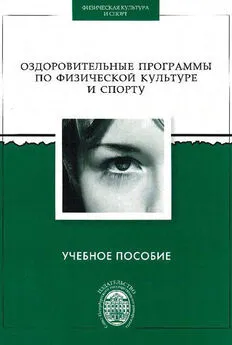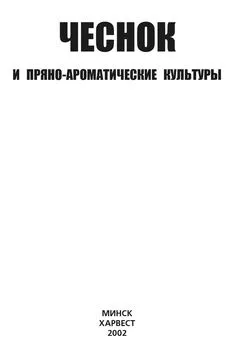Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
- Название:Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-15
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов краткое содержание
Книга «Куда ведет кризис культуры?» объединяет материалы междисциплинарных семинаров, проходивших в фонде «Либеральная миссия» в 2010–2011 годах. На вопрос, вынесенный в заглавие книги, ищут ответ, полемизируя друг с другом, Михаил Афанасьев, Алексей Давыдов, Денис Драгунский, Алексей Кара-Мурза, Игорь Клямкин, Вадим Межуев, Эмиль Паин, Андрей Пелипенко, Наталья Тихонова, Игорь Яковенко и Евгений Ясин.
Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Речь идет о том самом человеке, которого Гоголь назвал «ни то ни се»…
Игорь Клямкин: Про «ни то ни се», Алексей Платонович, мы уже запомнили.
Алексей Давыдов:
А «нитонисейность» опять-таки проистекает из раскола культуры, в которой присутствуют и общинно-самодержавные смыслы, воспроизводящие древний родовой локализм, и смыслы личности, локализм разрушающие. Из неспособности сделать выбор между архаикой и модерном. И, соответственно, из недоверия человека к самому себе.
Директор Института социологии РАН М. Горшков сообщает, что в среднем классе России преобладает недоверие к существующим политическим институтам страны [191] Горшков М. К. Сами себе капитал // Российская газета. 2010. 1 декабря. № 271.
. Отдел сравнительных политических исследований того же института сообщает «об устойчивом неверии российских граждан в политические цели, провозглашаемые государством» [192] Патрушев С., Хлопин А. Социокультурный раскол и проблемы политической трансформации России // Россия реформирующаяся: Ежегодник. М., 2007. Вып. 6. С. 301–318.
. Социолог С. Патрушев сообщает о критически низком уровне доверия людей друг другу [193] Институциональная политология. М., 2006. С. 327.
. И все это наш средний класс…
Игорь Клямкин: Недоверие к институтам, провозглашаемым государством целям и друг к другу — не есть недоверие к себе.
Алексей Давыдов:
Недоверие к другим — продукт недоверия к себе. Об этом пишет, например, А. Трошин: взаимное недоверие как тип культуры рождается, по его мнению, в структуре ментальности русского человека, особенность которой — в недоверии к собственной рефлексии. Эта ментальная специфика и есть то, что блокирует развитие личности, разваливает семью и разрушает общество [194] Трошин А. А. Доклад на заседании семинара «Социокультурная методология анализа российского общества», 25 марта 1998 года.
. И это именно патология, которая, в свою очередь, есть результат несоответствия между провозглашаемыми человеком целями развития и засильем в его менталитете исторически сложившихся родовых стереотипов, нацеленных на то, чтобы не допустить перемен. Конфликт в сознании разворачивается между архаичной культурой и ценностями личности.
Такова ситуация на полюсе «относительно благополучного интеллигента», который в составе российской интеллигенции сегодня численно доминирует. А что происходит с сознанием, которое осмысливают себя через независимость от прошлого опыта, от устаревших локалистских стереотипов? С сознанием людей, которые выступают против произвола власти и диктата «вертикальных» ценностей, порождающих коррупцию и другие чиновничьи злоупотребления?
Оказывается, что и эти люди пленены теми же ценностями локализма. Они не самокритичны, внутренне раздвоены между личностностью и кликовостью, расколоты на мелкие группы, которые варятся в собственном соку за железными занавесами доморощенных идеологий и не способны развернуть между собой диалог. Посмотрите хотя бы на то, как они ведут политическую борьбу. И тогда понятнее будет, почему слово «либерал» стало восприниматься массовым сознанием как ругательство.
Ну и, наконец, о молодых людях, четырнадцати-пятнадцатилетних школьниках и школьницах, нашей, возможно, будущей интеллигенции, которые выходят на площади российских городов с антиправительственными лозунгами и ножами в карманах. В их сознании и поведении господствует стадность толпы, пробуждающая в них самые дикие инстинкты и животные позывы. В их мозгах — те же самые культурные стереотипы, о которых я говорил выше.
Мой общий вывод: наша интеллигенция, заявляющая о своей независимости от родовых стереотипов в их общинно-самодержавной, советской и иных интерпретациях, на самом деле остается этим стереотипам приверженной. Она несет в себе культуру локализма. Поэтому главным противником и личности, и гражданского общества, и либеральной идеи являются родовые ценности в мышлении и широких масс, и интеллигенции, и формирующейся личности как субъекта реформ.
Эти ценности — самое дорогое для российской власти. Они для нее — основание принятия всех решений. Отсюда и нападки Путина на либералов, и писания Суркова, и «манифест» Никиты Михалкова, и лозунги «нашистов» всех мастей и оттенков.
Что же делать тем, кто всему этому хочет противостоять, кто ищет этому альтернативу? У них, думаю, нет иного выбора, кроме глубокой и бескомпромиссной критики исторически сложившихся стереотипов русской культуры с позиции смысла личности. Здесь я и вижу основной способ нашего одностороннего усиления.
Либеральная идея в России пока не способна оформить себя политически. И потому задача ее сторонников сегодня — ослаблять действие инерции культуры на интеллигентское и массовое сознание. Их задача — последовательно способствовать тому, чтобы сознание интеллигенции осмысливало себя через ценностный выбор принципа личности как основания мышления, принятия решений. Как основания своего саморазвития и развития России.
Осмысление этого принципа как права и способности человека выйти за рамки локализма не есть политический выбор. Речь идет не о борьбе за президентское кресло или место в Думе, а о гораздо более масштабной и почетной задаче. Речь идет о борьбе за русского человека.
Мы должны быть последовательны и бескомпромиссны в наших усилиях. Подчеркиваю: бескомпромиссны . Тогда только и превратимся мы из комаров, писк которых не слышен, в тяжеловеса, вести переговоры с которым будут считать за честь. В этой бескомпромиссности — наш единственный ресурс для диалога и возможных компромиссов в будущем.
Игорь Клямкин:
Интересная постановка вопроса — я имею в виду и идею «одностороннего усиления», и мысль о том, что утверждению либеральной культуры компромисса в наших условиях должна предшествовать либеральная бескомпромиссность. Но как избежать при этом заражения локализмом, которым мы и без того больны? На мой взгляд, это мыслимо только в том случае, если бескомпромиссность будет проявляться не только в критичности, будь-то к власти, культуре или чему-то еще, но и в альтернативной проектной конструктивности.
Такая конструктивность не может сводиться к бесконечным заявлениям о том, что политическая конкуренция лучше политической монополии, независимое правосудие лучше басманного и хамовнического, свобода СМИ лучше их несвободы, а отсутствие коррупции лучше ее присутствия. Если не будет конкретных проектов реформирования политсистемы, судов, госслужбы, никакого «одностороннего усиления» не получится.
Наверное, Михаил Афанасьев прав в том, что у старых либеральных консерваторов в данном отношении есть чему поучиться. Но консерватизму в смысле упования на авторитарную власть у них, по-моему, учиться не надо. Альтернативная проектность должна адресоваться обществу. С тем чтобы оно представляло себе, что такое правовое государство, в котором никогда не жило, каковы его международные институциональные стандарты и каким именно оно может и должно быть в России.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: