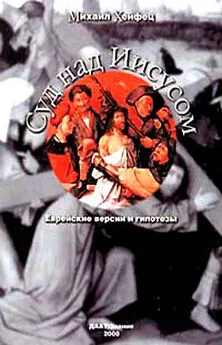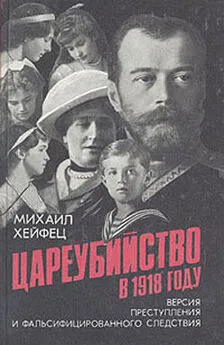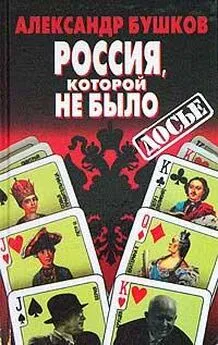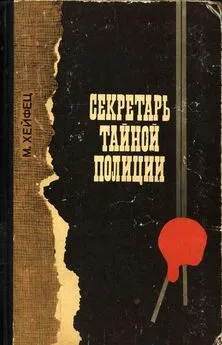Михаил Хейфец - Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы
- Название:Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДААТ/Знание
- Год:2000
- Город:М.
- ISBN:5-86993-010-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Хейфец - Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы краткое содержание
Свыше шестидесяти тысяч книг об Иисусе Христе вышло в свет только в XX веке. Но среди них почти не появлялось сочинений о его процессе — об этом самом важном судебном заседании в истории человечества.
Множество версий, свидетельств, гипотез, связанных с этим событием, возникло в среде еврейства. Евреи, среди которых жил, «наполнялся премудрости», проповедовал и погиб Иисус, создавали свои версии того, что происходило в среде их народа почти две тысячи лет назад.
Почему Иисуса судили ночью? Почему на утро его отдали в руки Пилата? Почему Пилат не захотел его казнить? Почему на казни настаивали судьи Храма?
Как иудеи и христиане разошлись в истории, исполнившись неприязни, принимавшей нередко форму смертельной ненависти?
Обо всем этом рассказывает книга израильского историка, журналиста и писателя Михаила Хейфеца «Суд над Иисусом (еврейские версии и гипотезы)».
Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почему не описана ситуация с Римом и Пилатом? Потому что если бы еврейский суд, например, малый Синедрион передал еретика-еврея в руки язычников для казни (вариант, описанный в Евангелиях), то судьи совершили бы немыслимое преступление перед еврейским Законом и общественным мнением. С точки зрения средневекового еврея христианство несомненно являлось опаснейшей ересью в еврействе, а Йешу при всех его личных добродетелях и талантах оставался для авторов «Истории» лжепророком и нарушителем Закона. Противники его, храмовая бюрократия, являлись для них же хранителями Божественной правды. Тут спора нет! Кто мог думать о еврейских мудрецах по-другому, тот уходил из общины в окружавший ее со всех сторон христианский мир. Но подобная расстановка сил в сказании (мудрецы — защитники Бога) получала в глазах любого еврея религиозно-нравственное оправдание лишь в случае, если самая жестокая расправа над еврейским еретиком осуществлена была по приговору еврейского суда и еврейскими руками. Авторы «Истории о повешенном» несомненно знали про крест и про гвозди распятия, и про то, каковы были пределы реальные компетенции Елены, а каковы — римлян — но они предпочли навалить на евреев все, даже то, в чем их не обвиняли христиане — и чашу с уксусом, и терновый венец, и исполнение казни (на капусте)… Все было возможно и прощаемо, кроме одного: кроме казни Йешуа язычниками через распятие! Отдать еврея, обвиненного в религиозном преступлении, римлянам — означало безнадежно опорочить еврейских мудрецов.
(Правда, вопреки распространенному мнению, иногда распятие приводили в исполнение и еврейские владыки. Такое один раз было. И все же, если бы в «Истории о Йешу» царица Елена приказала мудрецам распять Йешуа на кресте, то читателями «Истории» читалось бы это происшествие так: царица-саддукеянка повелела казнить законоучителя из праведников, из фарисеев-«прушим». Вот почему П. Гиль правильно отобрал в заглавии для слова «талуй» русский эквивалент «повешенный», а не исторически более достоверное «распятый»: переводчик верно почувствовал дух произведения.)
Особо отметим сюжеты со святыми Павлом и Петром, «агентами спецслужб» иудаистской жреческой элиты. Почему великий авторитет, самый знаменитый еврейский законоучитель эпохи раннего средневековья рабби Шломо Ицхаки (известный по аббревиатуре Раши), склонен был доверять столь невероятной интриге? (о чем написал П. Гиль в предисловии).
Еврейская община являлась единственной иноверческой общиной, которой официально дозволялось считаться сословием в средневековых городах. Невозможно представить мусульманский квартал в торговой Венеции тоже! Когда османский военный флот встал на якорь в Тулоне, в порту своего союзника, Франсуа I, чтобы совместно атаковать Карла V, это вызвало столь сильное недовольство подданных «христианнейшего» короля, что Франсуа откупился от мусульман огромной суммой денег, лишь бы они ушли по-доброму в свой Стамбул… А евреи сразу заимели то, чего не получили могущественнейшие в Европе османы, — привилегию на постоянное жительство в Европе. Даже когда феодалы подвергали их «законным» карам, эти преследования оказывались несоизмеримыми с гонениями на иных иноверцев. Альбигойцев (все же христиан, хоть и еретиков!) истребили до последнего человека, а евреев лишь изгнали из Франции (в соседние Италию и Испанию). Да и изгнания нередко сопровождались «извиняющимися» мерами (обеспечивался безопасный проезд до границ и пр.). Евреи, знакомые со злобным накалом христианского фанатизма, понимали уникальность своего социального статуса. И знали: еврейские привилегии существовали, потому что их санкционировала католическая церковь. Одобрил злейший идеологический враг, вдобавок главный социальный соперник (папские монастыри, конкурируя с евреями, считались важными кредитными учреждениями в Европе). Возможно, противоестественное, но идеологически обоснованное покровительство церкви и породило в религиозном еврейском сознании идею, что основоположники идеологии христианства — апостолы Петр и Павел — были тайными посланцами еврейских мудрецов, давшими христианам мудрые законы, в частности — «не мстить евреям».
(Кстати, теоретически допустимо, что, например, происхождение апостола Павла, в прошлом-то фарисея Шауля, ученика раббана Гамлиэля, действительно влияло на отношение некоторых отцов церкви к тому народу, из среды которого они вышли, и на наставления, что преподали своим последователям из новообращенных.)
Еще мысль в сторону.
Напомню: согласно тексту, еврейские мудрецы, испугавшись мощи и влияния христиан в собственной общине, подослали к сторонникам Йешуа агента, который обманом убедил еретиков отказаться от «мицвот», т. е. от заповедей и обычаев отцов. Якобы еретики-христиане мешали проводить обычные службы…
Вот здесь еврею, современному авторам «Истории», трудно было не задуматься над поведением религиозных деятелей прошлого — в рамках учения той самой конфессии, к которой они относились. Законы иудейской религии гласят: если твой брат, еврей, впал в заблуждение, в ересь, то обязанностью остальных является не отторжение, не изгнание ближнего, но борьба за его душу — проповедью («говорить, говорить, говорить») и личным примером благочестия. Мудрецы же избрали (согласно тексту агады, подчеркиваю) самый легкий, т. е. хирургический путь освобождения: вынудили всех заблуждавшихся отказаться от обета, данного Богу, и выкинули из веры предков значительную часть собственного народа.
Чтобы почувствовать, насколько подобная ситуация была чувствительной для исторического еврейского самосознания, напомню эпизод из истории еврейства 19 века: когда возникло хасидское движение, глава ортодоксов Элияху бен Шломо Залман (иначе Виленский гаон) отлучил всех хасидов от синагоги — объявил им «херем», анафему! То есть исключил из состава еврейского народа примерно половину национальной общины Российской империи… В ответ на что высшие авторитеты хасидской общины (ученики Дов-Бера из Межиричей) исключили из состава еврейства всю вторую половину, «литваков», «митнагдим»! Так что был такой момент в 19 в., когда формально евреев на белом свете вообще не существовало…
Авторы «Истории о повешенном» (кто бы они ни были) не могли не размышлять о великом грехе руководителей общины, которые был совершен с точки зрения иудаизма — вынуждении еретиков отказаться от ритуальных заповедей и окончательно порвать с заветом. Случайно ли в их уста авторы вложили слова, обращенные к Элияху-Павлу: «Мы клятвенно принимаем на себя все прегрешения перед Б-гом, которые ты совершишь из-за этого». Могли ли авторы — в их-то время — не задумываться о наказании, которое Божьим повелением, обрушилось на их народ после этой страшной клятвы — о гибели Храма, утрате родины и рассеянии — среди торжествующих христиан?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: