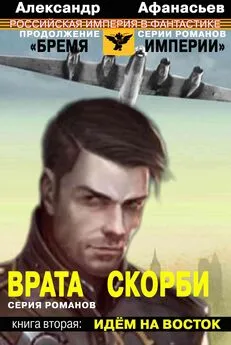Лев Вершинин - Идем на восток! Как росла Россия
- Название:Идем на восток! Как росла Россия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0840-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Вершинин - Идем на восток! Как росла Россия краткое содержание
Поволжье, Урал, Сибирь Дальний восток. Эти регионы мы привыкли воспринимать как привычную и неотъемлемую часть России. Так было далеко не всегда. Россия стала Россией, вырвавшись за тесные пределы Московского княжества. Русские казаки, воины и землепроходцы, шли на Восток, чтобы создать великую империю, которая досталась нам в наследство от наших великих предков.
От Казани до далеких Ямала и Чукотки выросла наша страна всего за несколько столетий. Мы все слышали о колониальных империях европейских держав, но мало кто задумывался, что мы живем в стране, которая не просто смогла создать страну, занимающую 1/6 часть суши, но и удержать ее где грамотной политикой, где военной силой, а где России помог счастливый случай. Впервые, в простой и популярной форме, в этой книге рассказывается о том, как созидалась Империя.
Известный писатель, публицист и блогер Лев Вершинин известен как автор целого ряда остроплитических и научно-популярных книг. С его труда, который станет настоящим подарком для всех, кто интересуется русской историей, мы начинаем серию «Собирая Империю». Вас ждет подробный и увлекательный рассказ лучших авторов о том, как Россия, в огне войн, в железной поступи казачьих отрядов и в шепоте дипломатических миссий из европейской далекой окраины превращалась в величайшую Империю
Идем на восток! Как росла Россия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ночью с 13 на 14 января «скопище» остановилось в десятке верст от Обдорска. Послали гонца к князю, требуя встречи. Спустя несколько часов появился дрожащий Иван Матвеевич со старшинами. Кланялся в пояс, просил прощения «за все обиды», чуть не пострадал (Ваули долго бранил его за свою ссылку и даже «хотел бить оленьим рогом»), но обошлось. Князь, встав на колени, поцеловал «самому главному старшине» руку, признавал, что тот «могущественнее самого царя», клялся отдать сколько угодно муки, оленей, сахара, одеял и даже уступить племяннику Япте «дедовское место», но просил сделать все, как положено. То есть на совете старшин. И таки уговорил.
Около полудня «Пиеттомин въехал в Обдорск с 40 человеками самых отборных, с 20 человеками вооруженными ножами вошел в юрту князя Тайшина; других 20 оставил при нартах, на которых под оленьими шкурами было оружие: луки со стрелами, шесты с копьями и несколько ружей, велев, если что, принести оружие. В юрте князя Тайшина требовал себе от него и прочих дани в сотни оленей и пуды муки, и объявил князю смену». Старшины слушали и кивали. Они были согласно на все. Они ждали. Время от времени в юрту заходили люди и просили Ваули выйти – дескать, сам исправник зовет в гости, – но «самый главный старшина» отмахивался. Типа, идите, не до вас. Отмахнулся даже от самого Соколова, как всегда, пьяного в стельку.
Наконец, появился сам Степан Трофимович, а далее пошло вкусное. «Исправник, войдя с урядником, взяв Ваули за руку, сказал: “Здорово, Ваули, пойдем ко мне в гости!”, и повел, притом Пиеттомин, при виде его внезапно оробев, вышел из юрты без сопротивления». Вообще-то «оробевшего» сына Ненянгов, с его-то биографией, представляю плохо, но как менты умеют «брать за руку» и «звать в гости», видеть доводилось, потому – верю. Сразу и безоговорочно. Правда, уже за дверью Ваули как-то вывернулся и бросился к нартам, но было поздно – вокруг уже дрались. Человек тридцать казаков и горожан-добровольцев, в точном соответствии с указаниями Скорнякова, резали упряжь, ломали копья, опрокидывали сани, выбрасывая на снег оружие; смертоубийств, однако, не было. «Только один бросился было со спины с ножом, но урядник Шахов, в ту минуту подбежав к нему, нож отнял и тем избавил исправника от явной опасности лишиться жизни». Ваули с двумя бывшими при нем людьми взяли на руки и понесли на квартиру к исправнику, «на чем и кончилось казаков и граждан Обдорска с оными самоедами сражение». Относительно же гражданских властей, «притом в соответствии с долгом присутствовавших», то Иван Матвеевич, «испугавшись того сражения, и чтоб ему чего не последовало от тех самоедцев, с некоторыми остятскими старшинами убежал и и в трахтире под лавку спрятался, заседатель же Соколов, будучи пьян, хоть и вел себя браво, но толку не творил, но ползая под ногами, кричал непонятные речи».
Будет сидеть!
Как бы то ни было, «разбойник» был изловлен, и местные власти не преминули подать это в соответствующем виде, а власти не поскупились на поощрения. Исправник Скорняков стал кавалером хоть и невысокого, но все же ордена Владимира IV степени. Предприниматель Нечаевский обрел золотую медаль «За усердие». А сам Иван Матвеевич позже был вызван в Северную Пальмиру, где получил высочайшую аудиенцию и подарки от государева имени, от чего «в восторге плакал во все время пребывания в столице». Но позже. Сильно позже. Когда простили. За что, тоже позже. А пока – для начала – отмечу вот что. Мнение советских историков и нынешних краеведов Ямала, согласно которому «восстание так встревожило власти, что по приказу царя из Петербурга в Обдорск прибыла специальная следственная комиссия, а генерал-губернатор Березовского края прислал для расследования своего адъютанта графа Толстого и отдал приказ – усиленно охранять Ваули», истине соответствует примерно в той же степени, что и вопли Тайшина о «великой угрозе Петербургу и Курску».
То есть, да, и чиновник по поручению из града Петрова приезжал, и губернатор адъютанта присылал, и приказ насчет дотошного расследования исходил от персоны высочайшей. Однако. Ровно ничего из этого не следует. Вернее, следует, но. Генерал-губернатор, имея в виду, что ранее в крае ничего подобного не случалось, просто не мог оставить ЧП без внимания. Графский титул сам по себе ни о чем не говорит, и адъютант – должность не слишком великая, можно сказать, секретарь, а прислан был лишь для того, чтобы доклад не полз по инстанциям, но лег бы на стол сразу же, тотчас по возвращении инспектора. Что же касается столичного гостя, то в его докладе (рукописи не горят!) вопросу о «возмущении самоедов» уделено три с половиной строки. Остальные 23 без малого страницы обстоятельно, в деталях излагают причины бунта обдорских «инородцев», то есть именно то, что хотел знать и поручил выяснить государь. А в этом смысле и сам Ваули, и все его экзерсисы далеко не первостепенны.
Тем не менее «самого главного старшину», конечно, судили. Сперва в Березове, потом в Тобольске. Судили военным судом, поскольку в действиях имелись признаки бунта. По ходу следствия, разумеется, били. Не сильно. Строго в рамках тогдашних европейских норм. Сам подследственный ушел в глухую несознанку. В очевидном – «580 оленей, две старинные кольчуги, три пуда муки, семь сажен моржевого ремня, три упряжи ременные, табаку два и пороху два же фунта, всего в 50 рублей», – каялся. Но «приспешников», кроме взятых вместе с ним, не называл, твердя, что «имен не припомнит». Даже кочевья, где агитировал, «в точности назвать затруднился». Правильно, в общем, вел себя. Изо всех сил рвался под уголовную статью. Имея в активе как минимум побег и рецидив, вешать на себя еще и политику резона, согласитесь, не было. И не вешал. Не дурак был. Но, зная цену «чистосердечному признанию», запирался умно. Охотно подтверждал, что, да, хотел для оленных ненцев «цены на казенную муку и русские товары понизить». Это совпадало с показаниями свидетелей Нечаевского, подтвердившего, что сговаривался с Ваули о «прямой» поставке провизии, муки и сахара, и Мурзина, признавшего, что «сулил хлопотать о скидке», – но тут вообще криминала не было. И что хотел, чтобы «инородцы, как ранее, платили подати вместо двух песцов одного», тоже не отрицал. Но тут речь шла о тех самых 7 рублях, что взимались князем вместо положенных 3 рублей 62 копеек, и выходило, что в этом он как раз стоит на стороне закона. А на вопрос, почему жалобу не написал, справедливо пояснял: «писать было некому».
Но чуть что, упирался рогом. Нет, царем не назывался – и по ходу таки выяснилось, что сообщает такое только Иван Матвеевич, после чего тему прикрыли. Да, старшин менял, но один сам просил, а второй баб губил, причем его, Ваули, родственниц, – стало быть, только из мести. Вот чего отрицать не мог, это «самого главного старшинства». Ну и не отрицал. Виноват, готов отвечать. В итоге «защитнику ненецкой бедноты и троим его соратникам», с учетом всех обстоятельств, отслюнили каторгу «до вразумления», а не «без срока», как просил Березов. А затем Ваули, как поется в ненецких сказах, «сгинул, как пущенная стрела». Кроме того, что позже, отмотав с дюжину годов, герой был выпущен на «химию» где-то на Ангаре, никаких упоминаний о его судьбе в архивах не сохранилось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: