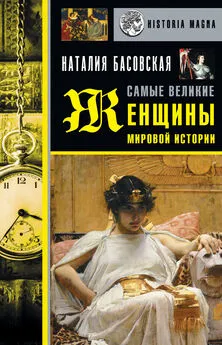Наталия Нарочницкая - Россия и русские в мировой истории
- Название:Россия и русские в мировой истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Международные отношения
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-7133-1132-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Нарочницкая - Россия и русские в мировой истории краткое содержание
Серьезный научный острополемический труд, посвященный судьбе России и Российского государства в потоке мировой и европейской истории. С религиозно-философских позиций автор предлагает свое видение проблемы как перманентный конфликт православной России с Западом. Взяв за отправной пункт анализа старый спор западников и славянофилов, автор вносит в этот спор новый плодотворный «горючий» материал. Книга дает обильную пищу для размышлений над такими актуальными сегодня вопросами, как основы самосознания русской нации, российского многонационального народа, место Российского государства в современном мировом сообществе и европейском геополитическом пространстве.
Россия и русские в мировой истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подписание Советско-японской декларации не удержало Японию от заключения договора о военном сотрудничестве с США, по которому закреплено бессрочное пребывание американских вооруженных сил на японской территории. Расширение японской территории в случае гипотетической передачи островов расширит и территорию, на которой не преминут появиться войска третьей стороны — Соединенных Штатов. При всей недальновидности этого состоятельны и заявления о том, что для н°Рмш_м веки забыт.
Глава 14
Россия, Mitteleuropa и Балканы в англосаксонской «геополитической оси» современной истории
Рассмотрение событий 1990 годов на фоне международных отношений всего столетия обнаруживает в последнем, казалось бы не имеющем аналогов периоде, классические геополитические константы. В области структурной реорганизации евразийского пространства после самоустранения России проявилась старая цель — взять под контроль Восточную Европу вместе с выходом к Балтийскому морю на севере и к Средиземному и Черному морям на юге — и опять Восточный вопрос: контроль над Средиземноморьем, Проливами и Черноморо-Каспийским регионом, где развивались глобальные противоречия между Россией и Англией на рубеже XIX–XX веков и где к ним добавились не менее глобальные интересы в области геоэкономики и направления потоков углеводородов.
На рубеже 90-х годов Россия сдала свои геополитические позиции, отреклась от своих традиционных установок и ушла из Восточной Европы, «организатором» которой всегда была либо она, либо Германия. Именно для предотвращения попадания Восточной Европы в их сферы влияния и возникла установка английской европейской стратегии: создание яруса лимитрофов между Германией и Россией. После краха СССР Западная Европа оставалась «ялтинской» и к тому же консолидированной в НАТО. Но «социалистическая Восточная Европа», выйдя из под российского контроля, рассыпалась в постверсальский ярус мелких и несамостоятельных государств от Балтики до Средиземного моря. На глазах возникла пока еще только географическая, но потенциально политическая Mitteleuropa, организатором которой могла возомнить себя Германия, чьи интересы к самостоятельной роли грозили проснуться. Эту постверсальскую Восточную Европу надо было срочно инкорпорировать в западный постялтинский каркас под англосаксонским контролем. В этом «втором Версале» расширение НАТО планировалось прежде всего как один из инструментов, гарантирующих незыблемость прежней западной структуры, а также удержание в ней Германии в той обезличенной роли, в какой она пребывала после Второй мировой войны. Граница этой структуры — атлантической постялтинской Европы — проходила по маккиндеровскому меридиану — Берлину. Для англосаксонских архитекторов Европы предоставлялся уникальный шанс, уже держа Германию в прочной узде, точно в соответствии с учением британской геополитики отделить Восточную Европу от России — «Хартленда», «Континента», без которой, она неизбежно утрачивала роль системообразующего элемента евразийского пространства. Это сулило организацию первой успешной системы территориального владения «от моря до моря» в меридиональном направлении от Балтики до Средиземноморья, о которой писал В. П. Семенов Тян-Шанский.
Американский «Университет национальной обороны» (The U. S. «National Defense University») в 1996 году перепечатал труд X. МакКйндера с предисловием генерала военно-воздушных сил США Эрвина Рокки — президента этой структуры. Рокки отмечает, что «еще в 1942 году авторы стратегии союзников признали ценность труда Маккиндера, который они использовали в конструировании поражения Германии» и признает, что «вся холодная война против Советов (1947–1991 гг.) была лишь промежуточной стадией» «в более великой борьбе сил «Океана» за владычество над «Мировым островом»» [565] Mackinder Н. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction, W. D. C., 1996, p. 4.
. Вряд ли вашингтонские политики принимали свои решения, глядя на претенциозные формулы Маккиндера. Однако константы англосаксонской стратегии прослеживаются в XX веке с бесспорной очевидностью, служа объективным фоном мышления политиков, даже не знакомых с политической географией.
Но на южном (балканском) фланге, который обеспечивал выход по меридиану к Средиземноморью в месте, где Вардаро-Моравская долина с Косовым полем — единственной природной равниной на Балканах — соединяет в военно-стратегических параметрах Западную Европу с Салониками в Эгейском море, на том самом фланге, за который велись дипломатические битвы между Молотовым и Бирнсом на сессиях СМИД, Югославия на глазах превращалась из противовеса СССР и Варшавскому пакту в антиатлантическую силу. Процессы разложения коммунистических структур в Югославии, общие для всех восточноевропейских стран, спровоцировали в этой «варварской» славянской стране, в отличие от Варшавы, Праги, Будапешта и денационализированной Москвы, не столько либеральный, сколько национальный подъем, который не исключал распад федерации с перспективой хотя бы частичного объединения сербов, что сделало бы небольшую, но стратегически важную территорию недоступной для проектов реорганизации постверсальской Mitteleuropa. Тем более тревожным был национальный подъем в Югославской народной армии.
О потенциальном стремлении Германии к более самостоятельной роли свидетельствовала резкая активизация связей с хорватами и словенцами с самого начала кризиса федерации в Югославии. В то время как Вашингтон, преследуя извечную британскую цель связать прорусских и прогерманских славян в одном государстве, придерживался концепции преобразования СФРЮ в мягкую конфедерацию, Германия настойчиво вела дело к признанию Хорватии и Словении и практически навязала его Евросоюзу, чем были весьма недовольны в Лондоне и в Париже. Многим это напомнило, что Хорватия воевала на стороне Гитлера, что эта часть Балкан всегда была в орбите центральных держав. Еще более серьезным симптомом было влияние на канцлера Г. Коля президента «Дойче Банк» А. Херхаузена, сыгравшего немалую роль в объединении Германии. Этот процесс был в его видении частью широкой перспективы будущего Европы. В ней «интеграция России в мировое сообщество и мировую экономику» произошла бы через привязывание рубля не к доллару, но к марке. Херхаузен предлагал даже погасить долги России. Такая основа создавала качественно иную перспективу взаимоотношений Германии с Россией и с восточноевропейскими странами. Но и будущее Европы от Атлантики до Урала становилось делом уже не США, а самих Европы и России. Вместе они представляли бы мощную геополитическую и экономическую силу. Атлантическое сообщество могло испытать кризис самой идеи. В такой гипотетической Европе, менее нуждающейся в атлантической эгиде, лидером неизбежно становилась Германия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
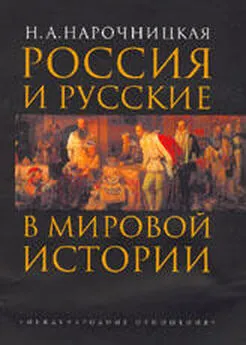

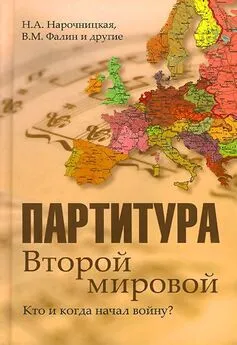

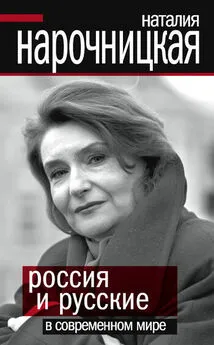
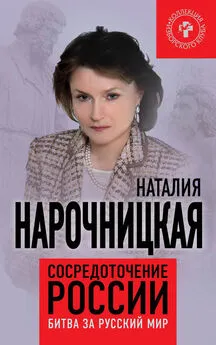
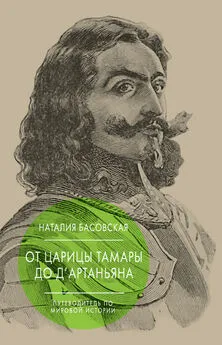
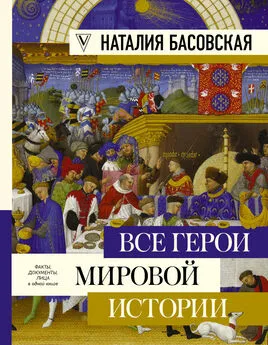
![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/1078491/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii.webp)