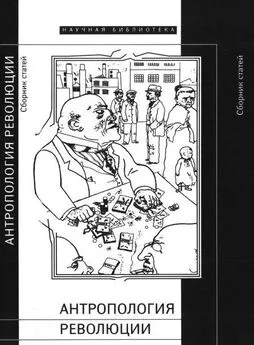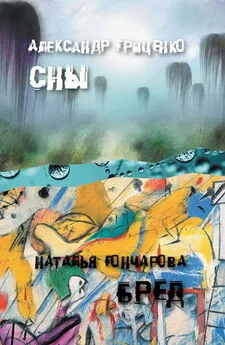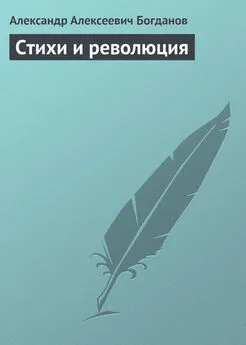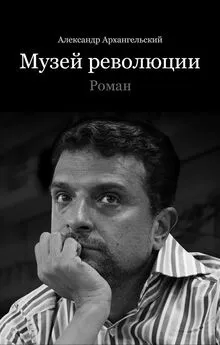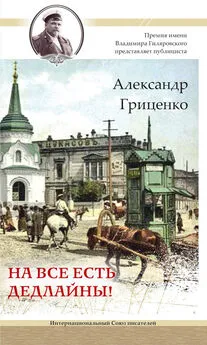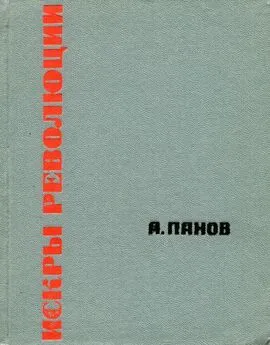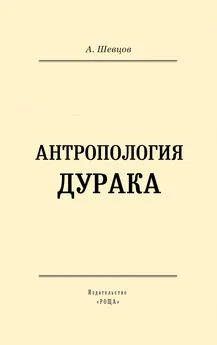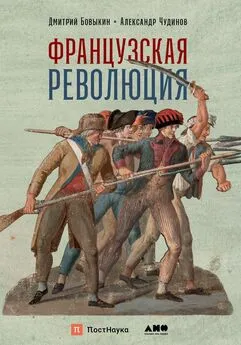Александр Гриценко - Антропология революции
- Название:Антропология революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гриценко - Антропология революции краткое содержание
В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др. Тем не менее их работы, как нам представляется, могут быть рассмотрены с точки зрения некоторых общих методологических ориентиров. Радикальные трансформации, объединяемые под именем революции (политические, научные, эстетические, сексуальные…), исследуются в этой книге как взаимодействие субъектов, активно участвующих в этих событиях, сопротивляющихся или пассивно принимающих новые «правила игры».
Антропология революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А как же вера в светлые идеалы коммунизма?
— Ну, милый мой, это же термин хороший был придуман: «блок коммунистов и беспартийных»…
Таким образом, в семьях «красных» рассказы о революции и последующих достижениях (работе) отца формировали представление о связях «идейности» (и ее источника — партийности) с профессиональным успехом. С другой стороны, рассказы о неучастии других родственников в революции и социальном переустройстве и в то же время повседневное с ними сосуществование формировали у детей убежденных коммунистов представление о другом мире — частном, родственном, альтернативном. Мире, который их отцы мечтали покорить и поставить себе на службу, мире, к которому у их детей, выросших в относительном достатке и получивших хорошее образование, уже в конце 1950-х, когда они пришли на службу в ЦК, не было больших претензий, которые выходили бы за рамки их служебных полномочий.
Совершенно иная картина наблюдается в интервью с той (примерно пятой) частью (11 из 50 информантов) бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС, родители которых представляют дореволюционный средний и upper-middle класс, не принявший активного участия в революции. Такой потомок дореволюционного среднего класса имеет дедушку — предпринимателя, священника или высокообразованного интеллигента с хорошим достатком, родителей, занимавших в СССР скромные позиции интеллигентов в неполитической, возможно, академической сфере. Революция и Гражданская война в первой беседе (или в мемуарах) у них вовсе выпадают из рассказа о судьбе их семьи. Единственное исключение — воспоминания заведующего сектором отдела науки (1983–1989) Николая Панова:
Инженерная специальность является как бы потомственной в нашем роду. Мой отец окончил высшее Императорское Московское инженерное училище путей сообщения и всю жизнь проработал инженером-путейцем. Дед по отцу, хотя и не имел высшего технического образования, прекрасно разбирался в технике и заведовал мастерскими в сельскохозяйственном училище. <���…>
Помню рассказ отца об одном из самых памятных событий в его жизни: «Поступила команда прибыть в Ставку в Могилев на дежурство по случаю приезда Николая II с семейством. Мне досталось дежурить в гардеробе. Царская семья проследовала мимо. Вдруг императрица сбросила с плеч пуховую шаль прямо мне на руки. Я взглянул на шаль и явственно увидел, что она в нескольких местах заштопана. Мелькнула мысль: „Дочего довели Россию, императрица ходит в заштопанной шали!“» Отец в то время переживал всю гамму патриотических чувств, радовался военным успехам, тяжело переживал поражения. Он как-то поведал мне: «Немца бы определенно разбили, если бы не эти стачки, забастовки…» Забегая вперед, можно сказать, что революцию он не принял, хотя в 1918 году состоял одно время членом Одесского ревкома от беспартийных… [692]
Типичная история представителя семьи «бывших» сперва рисует безмятежное дореволюционное время «почтенных предков» и потом моментально «перескакивает» к судьбе родителей, которые в середине, второй половине 1920-х годов обретают новый социальный статус — обычных советских интеллигентов.
Консультант, заведующий сектором отдела пропаганды (1972–1988) Алексей Козловский:
Я родился в 1930 году. Я из семьи коренных москвичей. Родители мои кончили Лесотехническую академию в 1926–1928-м. Что касается моей матушки, то она стала лесоводом в значительной степени в силу призвания. А отец мой — дворянин и служил еще в царской армии, так что ему тогда не очень светило высшее образование. А Лесотехническая академия была тем учреждением, куда можно было поступить. <���…> Так что адресами особняков, квартир, церквей, улиц, связанных с многими людьми из моей родни, с точными адресами где-нибудь до середины XVIII века я свободно владею. Были [среди них] дворянские роды, были роды купеческие, были крестьянские.
Вот мой пращур был крепостным у Загоскина [693]и от него выкупался. Потом они переехали в Иваново и там организовали одно из крупных текстильных производств. Мой дедушка Иван Арсеньевич Ясюнинский был довольно крупным предпринимателем, вполне состоятельным человеком, текстильным фабрикантом. Он окончил технологическое училище в Мюнхене, был довольно неплохим инженером, после революции в этом качестве и работал. Он умер в 1935 году, совсем мальчиком я помню его, но смутно. На мой взгляд, одна из лучших работ скульптора Николая Андреевича Андреева, создателя знаменитой ленинианы [694], — это памятник брату моего деда Константину Арсентьевичу Ясюнинскому, он похоронен на Новодевичьем кладбище [695]. Это фигура Иисуса Христа из черного лабрадора, такой выше человеческого роста, крупный памятник. А другой мой дед по отцу — Алексей Михайлович Козловский — был помещиком [696]. Поместье было в Тамбове, но он жил в Москве. Обычная такая московская семья.
Консультант, заместитель заведующего отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (1970–1990) Георгий Остроумов:
Отец мой, Сергей Алексеевич Остроумов, окончил духовную семинарию в Москве или Подмосковье. Остроумовы — это церковная фамилия, их было очень много в духовной среде. Папин отец, дед, был сельский священник в Подольске. Что такое сельский священник? — это человек, который сам пахал, сам косил. Это труженик. Но мой отец не был верующим. Он разочаровался очень сильно — как и многие в первые годы революции. Однако благодаря этой семинарии он знал латынь, он знал греческий, он был по-настоящему образованным человеком. После революции он окончил Московский государственный университет по специальности «агрохимия». «Я не ком, я не проф, я не член союза. Вставят в задницу перо — вылетишь из вуза» — это частушка, которую тогда пели. Работал в научно-исследовательских институтах. Последнее место его работы — заведующий центральной химической лабораторией фабрики «Красный Октябрь». Там были мастера высшей квалификации уже потому, что с этой фабрики снабжался весь Кремль и вся наша элита. Работать было очень трудно из-за большого внимания госбезопасности к этой фабрике. А оборудование жуткое, со времен Эйнема [697]. И вот как-то в ириску попал кусочек какой-то изношенной аппаратуры. Что же было! Отец, я помню, страшно переживал, потому что вызывали, КГБ (то есть НКВД. — Н. М.) все это проверяло, естественно. А он был беспартийный.
А мама моя — Литвинова Екатерина Васильевна. Мой дед, Василий Аркадьевич Литвинов, был очень известный в Кашире медик, он принадлежал к дворянству. После его смерти мы даже потом нашли потрясающе интересную шпагу, которую давали дворянам. Но он был абсолютно советский человек. Он дружил с начальником милиции г. Каширы [698].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: