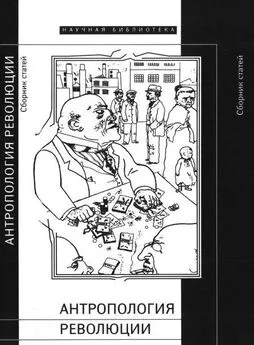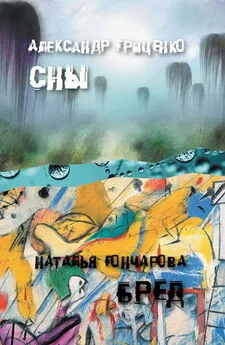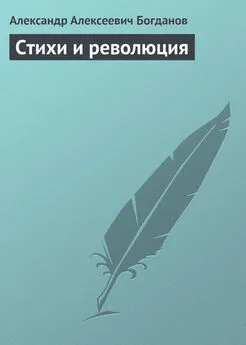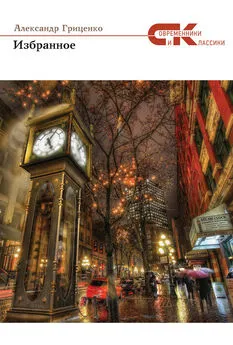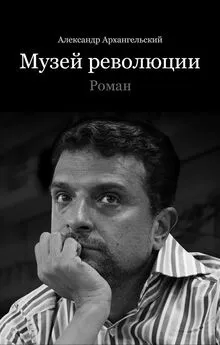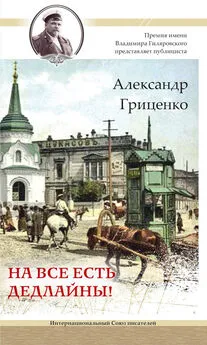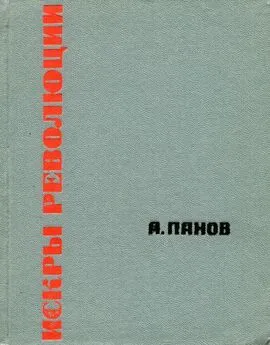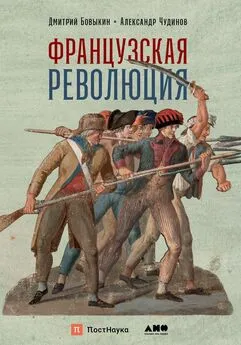Александр Гриценко - Антропология революции
- Название:Антропология революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гриценко - Антропология революции краткое содержание
В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др. Тем не менее их работы, как нам представляется, могут быть рассмотрены с точки зрения некоторых общих методологических ориентиров. Радикальные трансформации, объединяемые под именем революции (политические, научные, эстетические, сексуальные…), исследуются в этой книге как взаимодействие субъектов, активно участвующих в этих событиях, сопротивляющихся или пассивно принимающих новые «правила игры».
Антропология революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как же появился этот сложный хронотоп историзма и как ему удалось получить столь широкое признание, что нам и сегодня бывает трудно отделить его от «истории в целом»? Я не собираюсь рассматривать эти вопросы на уровне внешних социальных причин, не принадлежащих к конкретным мирам повседневности, поскольку, как уже говорилось выше, все ответы, которые мы могли бы обнаружить в этом «внешнем измерении», скорее всего, окажутся в высшей степени предсказуемыми, чтобы не сказать — банальными. Но вот в мирах повседневности XVIII и XIX веков мы можем установить связь между новым хронотопом — «хронотопом историзма» — с одной стороны, а с другой стороны — усиливающейся тенденцией (которая в конечном итоге станет институциональной) к наблюдению актов наблюдения за миром. В свою очередь, акты наблюдения мира, наблюдающие также себя самих, будут соотносить свои результаты, то есть определенные отображения или элементы знания, с тем конкретным углом зрения, из которого они производились, и, таким образом, вскоре приведут к осознанию перспективизма — того, что каждый потенциальный объект наблюдения может быть источником бесконечного числа возможных отображений (поскольку число углов наблюдения потенциально бесконечно). И результатом этого осознания станет эпистемологическая «horror vacui» — «боязнь пустоты», страх перед тем, что при таком количестве возможных отображений самотождественные объекты наблюдения вообще существовать не могут. Историческим решением проблемы «боязни пустоты» был, по-видимому, переход от зеркальной репрезентации мира, которая в середине XVIII века все еще доминировала в «Энциклопедии» Д’Аламбера и Дидро, к нарративной. С начала XIX века единственным адекватным ответом на вопрос типа «Что такое Франция?» стала история Франции, а на вопрос «Что такое лошадь?» — эволюционная история лошади. Потому и господствующими дискурсами этого исторического периода стали гегельянская «философия истории» и дарвинистский «эволюционизм». Чтобы объяснить поразительную эффективность нарративного принципа репрезентации мира в ответ на проблемы, порождаемые наблюдениями второго порядка (то есть самонаблюдениями репрезентации мира), перспективизмом и эпистемологической «боязнью пустоты», обратимся к способности нарративных дискурсов впитывать и интегрировать множественность различных репрезентаций каждого объекта наблюдения. Тот факт, что дискурс философии истории и дискурс эволюционизма, сблизившись, стали исключительно удобными и популярными инструментами репрезентации мира, связан, должно быть, с их «диалектическим» отношением равно к капитализму и социализму как к самым распространенным политико-экономическим формациям. Каким бы напряженным ни было соперничество между капитализмом и социализмом с середины XIX века, оба они были сформированы хронотопом историзма и оба проецировали его структуру на прошлое и будущее.
На этом этапе рассуждения мы уже незаметно ответили на главный вопрос о конкретных условиях возникновения понятия «революция». Совершенно очевидно, что появление этой концепции зависит от присутствия хронотопа историзма с его понятийным ореолом, что подтверждает и семантическая история слова «революция» [89]. В начале Нового времени в значении этого слова все еще отражалось его астрономическое происхождение — подразумевалось, что определенные явления будут снова и снова повторяться, следуя циклическим законам. Только в конце XVIII века и в контексте осмысления переживаемого опыта американской и французской революций, только в параллели к возникновению нового хронотопа историзма, это первичное астрономическое значение слова «революция» подверглось глубинному переосмыслению и приобрело тот смысл, который сегодня кажется нам естественным.
Мы понимаем революции как моменты разрыва, нарушения последовательности, вследствие которых возникают ситуации, не имеющие исторического прецедента; для нас революция — резкий качественный скачок, достижение неких нормативных целей или хотя бы приближение к ним (такой целью может быть, например, «свобода, равенство, братство» или «бесклассовое общество»); наконец, мы считаем, что революции происходят «с необходимостью» (что бы это ни означало), однако при этом подразумеваем, что они невозможны без вмешательства человеческого фактора. Вопрос, таким образом, состоит не в том, происходят ли революции «на самом деле» — полагаю, что почти любая перемена в состоянии человечества, не важно, глубинная или поверхностная, способна произвести эффект революции. В действительности надо спрашивать о другом: в каких конкретных обстоятельствах этот эффект революции возможен, а в каких — нет. Такая логика, разумеется, учитывает некоторые ревизионистские утверждения, согласно которым, например, Французская революция или Октябрьская революция не были «подлинными» революциями. Теперь нам уже понятно, что такая ревизия не порождает истину в последней инстанции, а лишь отражает изменение точки зрения (зачастую означающее и изменение хронотопа), с которой рассматриваются и интерпретируются некоторые исторические перемены. Если, наконец, у нас есть свобода (и концептуальный инструментарий) для решения, хотим ли мы считать то или иное событие «революцией», подобное суждение всегда должно базироваться на логике и мотивационном эффекте, который мы хотим произвести.
Ревизионистская тенденция, на которую я намекал, — будто некоторые события, которые мы очень долго называли «революциями», на самом деле не соответствуют внутренним критериям этого понятия — сама может быть одним из множества симптомов того, что в последние несколько десятилетий почти незаметно произошла смена хронотопа. Прежде чем попытаться, в заключение, кратко описать возможный крах хронотопа историзма и возникновение на его месте нового хронотопа, имя которому еще предстоит найти, хотелось бы отметить: я считаю чрезвычайно высокую степень институционализации хронотопа историзма, как в формально капиталистическом, так и в формально социалистическом мире, причиной того, почему ныне так трудно увидеть его исчезновение. На интеллектуальном и концептуальном уровне этот процесс исчезновения начался, вполне возможно, в 1970–1980-е годы, в ходе дискуссии между защитниками «постмодернизма» и теми представителями интеллигенции, которые оставались верны «модернистскому проекту». Я не связываю эту дискуссию с исчезновением хронотопа историзма в том смысле, что не пытаюсь идентифицировать «постмодернизм» в качестве такого нового хронотопа. Напротив, я думаю, что сам этот спор и вызвал коллапс того структурного элемента, который с начала XIX века служил решением проблемы полиперспективности и основой хронотопа историзма, и что подобным образом осуществилась некогда и замена зеркального принципа репрезентации мира на нарративный. Когда Жан-Франсуа Лиотар в своем манифесте 1979 года «Состояние постмодерна» критиковал «великие нарративы» («grands récits»), внезапно стало ясно, что — опять-таки на нарративном уровне — существует потенциально бесконечная множественность точек зрения, отражающих каждое индивидуальное явление, точно так же, как существовала бесконечность зеркальных репрезентаций каждого явления [90].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: