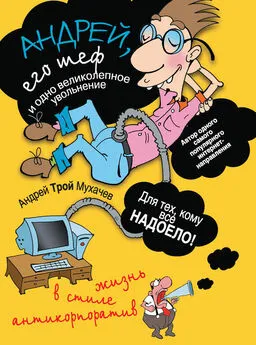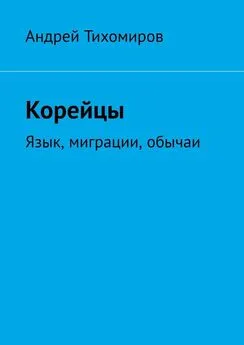Андрей Ланьков - Быть корейцем...
- Название:Быть корейцем...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-17-032481-2, 5-478-00137-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ланьков - Быть корейцем... краткое содержание
Корейцы сумели то, что пока плохо удается нам.
Как-то незаметно в нашу жизнь вошли слова: Daewoo, Samsung, LG, Hyundai... Южная Корея живет среди нас, но остается как бы невидимой. Мы мало что знаем о ее жителях, которые совершили подвиг, за 25 лет перескочив от состояния нищеты к сегодняшнему процветанию. Кто слышал доподлинно о «корейском экономическом чуде»? И если главный его секрет — сами корейцы, то какие же они?
Об этом рассказывает Андрей Ланьков — известный отечественный кореевед, — сумевший нарисовать такой коллективный портрет жителей Кореи, который становится для россиян настоящим открытием.
Предлагаемая новая книга — из тех, которые, начав с любой страницы, можно читать не отрываясь. Написанная живо и увлекательно, она построена как мозаичное панно из множества ярких коротких очерков.
Вооружившись изложенной в этой книге практической информацией вы можете смело планировать и туристическую, и деловую поездку в Южную Корею. Используя знания о менталитете корейцев, вы станете «своим» в любой компании — от уличных торговцев до профессоров.
Адресуется самой широкой аудитории.
Быть корейцем... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хотя и в Корее, и в Японии, и во Вьетнаме в своё время выдумали небольшое количество «своих» иероглифов, подавляющее их большинство (99,9%) пишется одинаково во всех четырёх «иероглифических» языках. Точнее, впрочем, будет сказать «писалось», а не «пишется», ведь последнее столетие для всех стран региона стало временем реформ. Больше всего пострадала иероглифическая традиция во Вьетнаме, где сто с небольшим лет назад французские колонизаторы и поддерживавшие их католические миссионеры насильственно ввели латинский шрифт. В Японии и Китае после Второй мировой войны тоже были предприняты реформы правописания. В ходе этих реформ (китайская, организованная Мао, была гораздо радикальнее японской) были узаконены некоторые упрощённые, скорописные варианты иероглифов. В Корее же, на Тайване, Гонконге и Сингапуре до сих пор сохраняются исконные полные формы, которые до начала нашего века употреблялись во всей Восточной Азии.
Однако, несмотря на все реформы, большинство иероглифов во всех трёх языках по-прежнему пишется одинаково. Поэтому, увидев записанное иероглифами слово, житель любой из стран региона без труда поймёт его значение. С предложением дело обстоит иначе, ведь здесь большую роль играют не только слова, но и грамматика, которая во всех языках своя и очень разная. Даже если хорошо знающий иероглифику человек увидит записанные иероглифами знакомые слова «университет» и «открыть» в тексте на незнакомом ему языке, он не поймет, что же случилось с университетом: открыли его? не открыли? откроют? хотят открыть? не должны открывать? Все эти «могут», «хотят», «должны» и выражаются грамматикой!
Однако общность написания всё равно существенно облегчает взаимные контакты между странами региона. Дело в том, что не только в корейском, но и в других языках Дальнего Востока заимствований из китайского – фантастическое количество. Обычный корейский газетный текст примерно на три четверти состоит из таких заимствований. Поэтому если все слова китайского происхождения записывать иероглифами, то иероглифы составят примерно половину текста. Именно половину, а не три четверти, поскольку, как мы уже говорили, суффиксы и окончания всё равно записываются корейским алфавитом. Так образованные корейцы и писали до середины нашего века (до конца XIX века они вообще обычно писали на древнекитайском).
Однако после 1945 г. началось постепенное вытеснение иероглифики и укрепление позиций корейского алфавита. С особой скоростью процесс этот пошёл в 1960 и 1970-е годы. Тогда индустриализация привела в город массы крестьян, которые в прошлом не имели возможности изучить иероглифику, но довольно быстро смогли научиться читать и писать на хангыле. Большую роль сыграла и шумная кампания сторонников корейской национальной письменности, объединённых в так называемое Общество хангыля. В результате их активной пропаганды, во многом поддерживаемой как правительством, так и националистической интеллигенцией, многих корейцев удалось убедить в том, что полное вытеснение иероглифики и переход исключительно на алфавитную письменность является не только безусловным благом, но и проявлением «истинного корейского национального духа».
В результате этой активной пропаганды удалось добиться изъятия иероглифики из программ начальной школы, хотя в средней школе она изучается по-прежнему (официально утверждённый иероглифический минимум составляет около двух тысяч знаков). Произошёл также и переход на алфавитную письменность почти всех публикаций, предназначенных для «простого народа». В то же время значительная часть специальной литературы и официальных материалов, адресованных представителям экономической, политической и культурной элиты, по-прежнему пишется смешанным письмом с очень широким использованием иероглифики. Во многих начальных школах учителя также продолжают преподавать иероглифы, делая это как бы полулегально. Вызвано всё это отнюдь не консервативностью и упрямством сторонников старинной письменности.
Дело в том, что, вопреки националистической пропаганде, внедрение алфавита отнюдь не является безусловным благом, на что указывают и продолжающие своё сопротивление сторонники широкого использования иероглифики. В своих статьях и выступлениях они подчёркивают, что иероглифика, во-первых, является системой письменности, общей для всех стран Дальнего Востока – Китая, Японии, Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга и, исторически, Вьетнама. Сейчас укрепление экономических связей между этими странами является одной из важнейших задач их внешней политики. Однако отказ Кореи от иероглифики во многом подрывает подобные связи и затрудняет взаимопонимание между корейцами и их соседями. Второй аргумент, высказываемый в пользу сохранения иероглифики, заключается в том, что она делает «прозрачной» этимологию слов, позволяет легко понимать их происхождение и, при необходимости, просто создавать новые слова и выражения из китайских корней. По сравнению с новообразованиями из корейских корней или заимствованиями из западных языков такие неологизмы отличаются краткостью и удобством в использовании. В-третьих, без иероглифики понимание специальных текстов попросту невозможно из-за очень распространённой среди научных терминов омонимии (ситуации, когда два слова с разным значением произносятся одинаково). В-четвёртых, наконец, знание иероглифики – это необходимое условие для понимания старой корейской культуры.
Школы старой Кореи
Как было устроено образование в Корее во времена правления династии Ли, в XV-XIX веках? С определённой долей натяжки можно сказать, что и в те времена в Корее существовали начальные, средние и высшие учебные заведения. Примерным аналогом нынешней начальной школы тогда была деревенская школа «содан», средней школе более или менее соответствовали уездное государственное училище «хянгё» и частная школа при конфуцианском храме «совон», а корейским университетом (или, скорее, Академией государственной службы) был Сонгюнгван. Разумеется, это сравнение – очень приблизительное. Аттестатов зрелости в старой Корее не выдавали, и решение о том, принять ли ученика в ту или иную школу, зависело в основном от учителя, который при этом в первую очередь обращал внимание на уровень знаний и способностей кандидата.
И тем не менее, что-то в этом сравнении есть. Путь к вершинам знаний для большинства корейцев начинался в их деревенской школе «содан» (в переводе с древнекитайского – «зал книг»). Для подавляющего большинства учеников – детей зажиточных крестьян – этот путь там же и оканчивался, ведь в доиндустриальную эпоху получить полноценное образование и в Корее, и в иных странах могли только очень и очень немногие – от силы 1–2% населения. Тем не менее, в целом по уровню образования страны Дальнего Востока вообще, и Корея – в частности существенно опережали тогдашнюю Европу и Россию. Уже с XVI века начальная школа «содан» была нормой в каждом крупном корейском селе. Содержала школу обычно сельская община, корейский «мир», хотя иногда школу основывали местные богачи, чтобы учить в ней своих детей. Впрочем, и в такие частные школы всё равно часто брали способных ребят даже из самых бедных семей. В корейской деревне понимали: выучить способного мальчишку (о девочках, понятное дело, речи и не было) – это сделать выгодное капиталовложение. Если в будущем мальчишка станет чиновником, затраты вернутся сторицей, ведь он будет помогать односельчанам в решении их дел и проблем, походатайствует за них в губернском городе, а то и в столице. Поэтому-то в старой Корее даже существовало нечто вроде системы стипендий, которые платили крестьянские общины особо одарённым детям из бедных семей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: