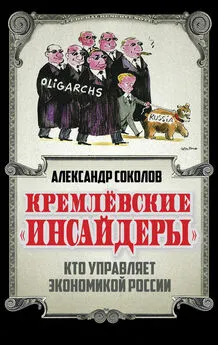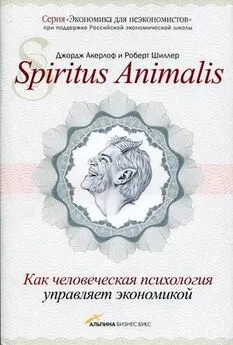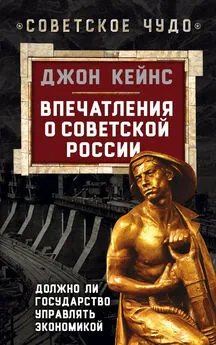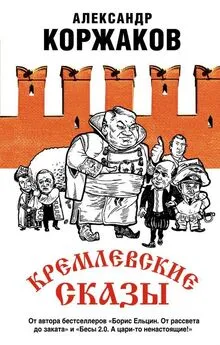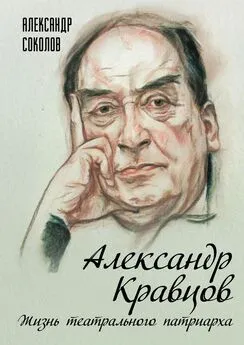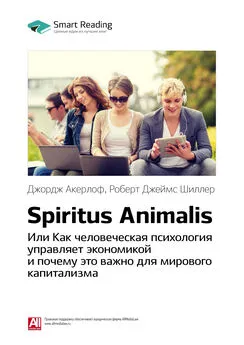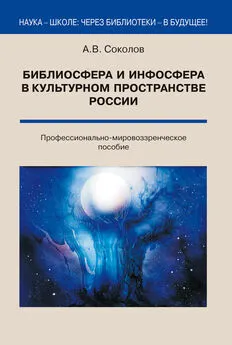Александр Соколов - Кремлевские «инсайдеры». Кто управляет экономикой России
- Название:Кремлевские «инсайдеры». Кто управляет экономикой России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906817-01-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Соколов - Кремлевские «инсайдеры». Кто управляет экономикой России краткое содержание
Александр Соколов — талантливый публицист, экономист, журналист РБК. В книге, предоставленной вашему вниманию, он показывает механизм действия российских госкорпораций от «Роснано» до «Ростеха» на примерах самых известных «мегапроектов»: здесь и «Олимпстрой», и производство российских «супергаджетов» и «супермониторов», и строительство различных заводов с применением высоких технологий, и т. д.
Автор утверждает, что основную роль в деятельности этих корпораций, а также в экономике России в целом играют «инсайдеры», которыми он называет людей, имеющих привилегированное положение в государстве и поэтому полностью контролирующих крупные компании. Последствия инсайдерского контроля для российской экономики плачевны, о чем свидетельствуют приводимые Соколовым цифры.
Летом 2015 года А. Соколов был арестован вместе с известным писателем и публицистом Ю. Мухиным за «расшатывание обстановки в РФ в сторону нестабильности». Злые языки поговаривали, что истинной причиной ареста стали экономические расследования Соколова.
Кремлевские «инсайдеры». Кто управляет экономикой России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Результаты исследования McKinsey Global Institute (MGI) показывают, что эффективность вложений в инфраструктуру уже десятилетиями остается низкой. В ближайшие 18 лет мировая экономика могла бы cэкономить на инфраструктурных проектах минимум по $1 трлн в год из $2,7, или 37 % [Dobbs et al., 2013]. Главные проблемы связаны с неэффективными планированием, реализацией проектов и системами управления. В большинстве стран необходимая сумма первоначально занижается, а выгоды от проектов завышаются, ресурсы распределяются в зависимости от узких политических интересов, а на этапе отбора проектов возможна коррупция, пишут исследователи [там же]. В России из $1,5 трлн, которые будут потрачены на инфраструктуру с 2013 по 2030 гг., можно сэкономить $600 млрд (40 %), подсчитали в MGI [там же].
По данным опроса PwC, 59 % из 105 респондентов, ответственных за инфраструктурные проекты, ожидают увеличения затрат на проекты в течение следующих 12 месяцев [Инфраструктурные проекты…, 2013]. У 78 % респондентов, в ходе осуществления их проектов за последние 12 месяцев наблюдались отставания от графика [там же]. Средний за год уровень перерасхода по проектам у 29 % респондентов составил 0—10 %, у 20 % — 10–30 %, у 3 % — более 30 % [там же]. Одними из важнейших направлений повышения эффективности инфраструктурных проектов являются надежность планирования проектов и хода их реализации (65–70 % респондентов). Половина респондентов выделили также точность в определении затрат, обеспечение финансирования и управление рисками [там же].
По оценкам сотрудника школы бизнеса Оксфордского университета Б. Фливбьерга, исследовавшего 258 инфраструктурных проекта, 90 % из них выходят за рамки бюджета, причем при строительстве железных дорог перерасход составляет 44,7 %, мостов и тоннелей — 33,8, дорог — 20,4 % [Flyvbjerg, 2008].
Причинами перерасхода по проектам в различных странах мира (исследовались преимущественно западные страны), по данным исследований ученого, являются три группы проблем: а) технические (нехватка опыта, недостаток эмпирических данных, неопределенность, ошибки принимаемых решений); б) психологические факторы (необоснованный оптимизм, завышение ожиданий отдачи от проектов, недооценка рисков); в) политические факторы (умышленный ввод в заблуждение по поводу эффективности проекта, лоббизм, имитация эффективности и небывалых результатов). Как отмечает Фливбьерг, там, где присутствует политическое давление, возникает обман и введение в заблуждение [там же].
В данном исследовании на примере проектов российских государственных корпораций мы постараемся доказать, что важной и порой определяющей причиной перерасходов является неформальный инсайдерский контроль и изъятие ренты.
Особенности корпоративного управления России
Приватизация как матрица корпоративных отношений
В результате проведенных за последние 20 лет либеральных реформ и преступной приватизации в сфере управления крупным российским бизнесом оппортунистическое поведение стало распространенной практикой. Класс криминальной компрадорской буржуазии, заполучив наиболее лакомые куски народной собственности, изначально был вынужден опираться на неформальные механизмы сохранения своей власти над активами. Криминальный характер приватизации в 1990-е годы получил официальное подтверждение в докладе Счетной палаты РФ. Она сопровождалась многочисленными нарушениями со стороны как органов власти, так и руководителей предприятий, что приводило к их незаконному отчуждению по заниженным ценам [Анализ процессов приватизации… 2004]. По данным Росстата, в 1992–1994 гг. было приватизировано более 112 тыс. предприятий и более 61 % основных средств. При этом государство получило от покупателей государственного и муниципального имущества в 1992 г. — 0,16 млрд руб., в 1993 г. — 0,45 млрд руб., в 1994 г. — 1,07 млрд руб. [ЕМИСС, 2012; Социально-экономические показатели… 2011]. В совокупности доходы государства от приватизации в 1992–1994 гг. составили лишь 1,16 % от стоимости приватизированных активов, в 52 раза меньше положенного [Соколов, 2012]. Насколько «лучше» новые «эффективные менеджеры» стали управлять предприятиями, мы рассмотрели в первом параграфе. Несмотря на то, что приватизации подлежали лишь основные средства предприятий, по факту у общества были отчуждены и сами недра, которые принадлежат в первую очередь будущим поколениям.
Приватизация и слом плановой системы хозяйства резко усилили нараставшие в экономике еще в позднесоветское время неформальные взаимоотношения и рентоориентированное поведение [Дзарасов, Новоженов, 2009; Дзарасов С.С., 2012]. Передача государственной собственности в частные руки в результате приватизации была уникальным в истории актом присвоения ренты [Ролан, 1997, c. 85]. Именно в результате российских реформ и приватизации в России произошло « становление концентрированной собственности и инсайдерского корпоративного контроля» (курсив мой. — А.С. ) [Долгопятова, 2003, c. 4]. Сначала собственность была поделена, затем шел процесс концентрации, в результате чего возникла непрозрачная структура собственности, а истинные ее бенефициары скрыты за длинными цепочками формальных владельцев [Долгопятова, 2004]. Приватизация способствовала распылению активов среди множества конкурирующих друг с другом групп [Дзарасов, Новоженов, 2009, с. 415]. Поскольку присвоение ренты носит неформальный перераспределительный характер, оно так или иначе связано с деятельностью теневых, в частности криминальных структур [Скоробогатов, 1998]. Постоянные волны перераспределения и захвата собственности еще больше усугубляют ситуацию, делая поведение собственников краткосрочным, а капиталовложения — ущербными. В таких условиях становится невозможно решить проблему модернизации.
Слияние прав собственности и функций управления
В работах Г.Б. Клейнера хозяйство России характеризуется как во многом «экономика физических лиц», т. е. экономика, в которой доминирующим агентом является индивидуум, удовлетворение личных интересов которого определяет поведение организаций. Одной из особенностей российской модели «экономики доминирующих собственников» из числа бюрократии и олигархов состоит в том, что большинство руководителей/владельцев предприятия озабочены в первую очередь достижением индивидуальных и краткосрочных целей, а не целей развития предприятия [Клейнер, 2004]. В «экономике собственников» максимально снижена возможность воздействия общества на предприятие. Часто доминирующие группы опираются на неформальный (инсайдерский) контроль для цели вывода средств, о чем речь подробнее пойдет далее [Дзарасов, 2009].
В трудах ученых находит свое подтверждение тезис об отсутствии классического отделения прав собственности от функций управления в российских корпорациях. В первую очередь это связано с тем, что в российском корпоративном управлении господствует неформальный контроль доминирующих групп над активами [Дзарасов, Новоженов, 2009; Паппэ, 2000; Паппэ и др., 2009; Устюжанина и др., 2008]. Отмечается наличие в корпоративных структурах связей нерыночного характера, а также существование некоторого центра (часто неформального) принятия ключевых решений, обязательных для всех управленческих структур [Паппэ, 2000]. Долгопятова отмечает крайне высокую концентрацию собственности и участия доминирующих собственников в исполнительном управлении [Долгопятова, 2010]. За период 2005–2009 гг. были выявлены признаки деконцентрации собственности и постепенного отхода крупных собственников от управления. Однако многие открытые компании фактически остаются частными фирмами, где нормы корпоративного законодательства по-прежнему имитируются [там же]. Формально топ-менеджмент может и не быть юридическим собственником компании, однако реально владеет ею с помощью инфраструктуры контроля (своих людей, офшоры, цепочки фиктивных фирм и т. д.), о чем еще пойдет речь далее. Верно и обратное. Если собственник не подкрепил свое право на активы с помощью неформальных институтов контроля, то ему будет сложно реализовать его [Дзарасов, Новоженов, 2009]. Отсутствие в России выборности судей и независимой судебной системы также препятствует осуществлению формальных прав собственности и способствует оппортунизму [Состояние судебной системы… 2010, с. 6–8; Global Corruption Report 2007, p. 13, 31–35].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: