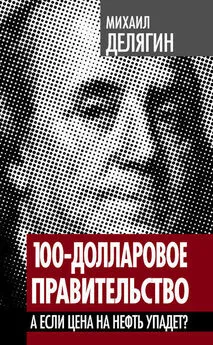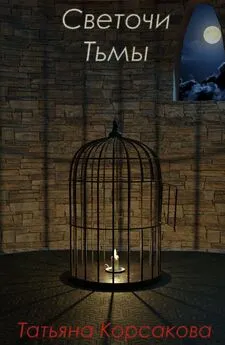Михаил Делягин - Светочи тьмы: Физиология либерального клана. От Гайдара и Березовского до Собчак и Навального
- Название:Светочи тьмы: Физиология либерального клана. От Гайдара и Березовского до Собчак и Навального
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт проблем глобализации, Книжный мир
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0827-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Делягин - Светочи тьмы: Физиология либерального клана. От Гайдара и Березовского до Собчак и Навального краткое содержание
Жизнь быстротечна: даже участники трагедии 90‑х забывают ее детали. Что же говорить о новых поколениях, выросших после августа не только 1991‑го, но и 1998‑го? О тех, кто был защищен от кошмара либеральных реформ своим младенчеством и до сих пор молчащими от стыда родителями, — и потому верит респектабельным господам, так уверенно лгущим о свободе и демократии?
Живя в стране оборванных цитат, мы не помним вторую половину поговорки: «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба». А она становится до жути актуальной в ситуации, когда тот самый либеральный клан, чьими усилиями уничтожена наша Большая Родина — Советский Союз, не только по–прежнему процветает, но и остается у власти, и, насколько можно судить, эффективно, энергично и изобретательно старается вновь уничтожить нашу страну — теперь уже Россию.
Эти люди, по–прежнему служа международным корпорациям, могут проделать с Россией то, что когда–то сделали с СССР: взорвать изнутри, развалить на куски и скормить их своим иностранным хозяевам.
Чтобы не допустить этого, надо знать в лицо тех, кто уничтожал нас в 90‑е годы и с упоением продолжает свое дело и сейчас. Именно о них — творцах либеральных реформ 90‑х, «нулевых» и нынешнего времени, обо всём либеральном клане, люто ненавидящем и последовательно истребляющем нашу Родину — новая книга политика, экономиста и писателя Михаила Делягина.
Врага надо знать в лицо, — но намного важнее понимать, как он стал врагом, чтобы не допустить превращения в него собственных детей.
Светочи тьмы: Физиология либерального клана. От Гайдара и Березовского до Собчак и Навального - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как превратить человека в «квалифицированного потребителя»
Выдающаяся и, по–видимому, не оцененная по достоинству заслуга Кузьминова перед либеральным кланом заключается в том, что он, похоже, первым открыл технологию создания структур управляемой им «общественности», которые поддерживали любые либеральные начинания, создавая ощущение общественной поддержки и позволяя им говорить от имени общества, ссылаясь на его мнение, — даже если на самом деле общество отвергало их людоедские идеи почти единодушно. При этом добросовестные представители общественности, не понимающие, с кем имеют дело, тратили свои силы на заведомо бесплодные обсуждения проблем с ангажированными «специалистами» и, впадая в отчаяние от полного непонимания «авторитетными и уважаемыми профессионалами» самоочевидных вещей, теряли силы и волю к сопротивлению.
Так, в 2001 году Кузьминов стал сопредседателем созданного по его же инициативе Российского общественного совета по развитию образования (РОСРО), организовывавшего интенсивные обсуждения вплоть до 2009 года. РОСРО приобрело значительный вес как лоббистская организация и, как отмечается даже в официальных справках, «помогла серьезно скорректировать содержание школьных стандартов по математике, литературе и истории».
С приходом Фурсенко в 2004 году Кузьминов представил на обсуждение РОСРО фундаментальный доклад о необходимости полной реструктуризации всей системы образования, который был триумфально одобрен и торжественно направлен президенту В. В. Путину.
Три ключевых принципа советского образования — всеобщность, бесплатность и фундаментальность — подвергались полному пересмотру как нерентабельные.
Кузьминова возмущало, что Россия является слишком образованной страной: «в нищей России учится 98,6 % подростков в возрасте 16 лет, на среднее образование тратится больше, чем на высшее» (вот он, лоббизм ректора вуза!) Справедливое указание на переизбыток специалистов с высшим образованием полностью нейтрализовывалось возмущением по поводу финансирования «изживших себя» и «ущербных» ПТУ. Фактическая их ликвидация усугубила чудовищный дефицит рабочих кадров и стала самостоятельным фактором, блокирующим развитие российской экономики.
В качестве примера того, как деньги государства уходят сквозь пальцы, приводилось содержание и питание детей в детских садах (то, что это позволяет родителям полноценно работать, либеральных реформаторов, разумеется, не интересовало). Возмущение вызывало и то, что школы должны были концентрироваться на обучении детей программе, а не предоставлять им платные услуги за пределами учебного плана (что неминуемо привело бы к отвлечению сил от собственно учебы и к снижению ее качества).
Кузьминов иезуитски признавал «большие достижения в прошлом» советской системы образования, — но лишь для того, чтобы постулировать необходимость полного разрыва с нею, чтобы система образования «могла удовлетворить новые потребности непланового рынка и открытого общества».
Настаивая на увеличении финансирования образования, Кузьминов последовательно делал все для разрушения его собственно образовательной, воспитательной функции, для превращения образования в простую сферу услуг, которая в силу невозможности контроля со стороны потребителей на глазах вырождается в инструмент ограбления и уродования целых поколений россиян.
Именно усилия Кузьминова, насколько можно понять, сыграли ключевую роль в превращении системы образования в средство самоудовлетворения социально не адаптированных интеллигентов за счет подготовки профессиональных безработных с завышенной самооценкой.
Главной идеей Кузьминова стало независимое электронное тестирование выпускников школ, впоследствии названное «единый государственный экзамен» (ЕГЭ). Еще в 2002 году правительствоРоссии взяло у Мирового банка кредит в 49,85 млн. долл, на проект «Реформа системы образования» — и уже в 2003 году началось экспериментальное применение ЕГЭ по всей стране. Даже президент ВШЭ и РСПП, верный соратник Гайдара Шохин признавал, что до двух третей сумм, получаемых Россией от Мирового банка, шли на оплату самого кредитора (его консультантов и экспертов). Оставшаяся треть «пошла на эксперименты, там и сям оседая в широких карманах».
Общество хорошо понимало, что введение тестовой системы как единственной (хотя она по своей природе должна быть лишь вспомогательной) отбивает у детей способность самостоятельно мыслить, приучает вместо выстраивания причинно- следственных цепочек искать готовые ответы, делает их беспомощными перед авторитетами, повышая тем самым их управляемость. При этом введение ЕГЭ сопровождалось не снижением, но усилением коррупции, переместившейся на уровень чиновников от образования, участвовавших в организации тестирования.
Однако, несмотря на все протесты, ЕГЭ продавливался железной рукой: либеральным реформаторам, как и государству в целом, надо было продемонстрировать какие–то успешные реформы, а реформа образования была одной из немногих либеральных реформ, не грозившей в начале 2000‑х, когда общество после 90‑х было еще очень бедно, крахом и социально–политическими потрясениями. Кроме того, в ЕГЭ были заинтересованы руководители органов образования регионального уровня, вероятно, рассчитывавшие (и, как показал ряд скандалов, вполне оправданно) на замыкание коррупционных потоков на себя.
Введение ЕГЭ привело к тому, что школьники в выпускной год, как правило, не учатся, а тупо натаскиваются в тренировках на прохождение тестов и зубрят возможные ответы. В результате его повсеместного внедрения весь первый курс преподаватели, как правило, вынуждены заново обучать студентов необходимой части школьной программы.
В отличие от ЕГЭ, идею финансового поощрения отличившихся выпускников Кузьминову, несмотря на всю влиятельность, так и не удалось провести в жизнь. Вероятно, потому, что она не создавала новых коррупционных возможностей.
Зато идея финансирования школ и вузов в зависимости от числа учащихся в бюрократических кругах, несмотря на отчаянное сопротивление профессионального сообщества, прошла «на ура». Она позволяла региональным властям ликвидировать небольшие школы и сэкономить на этом деньги; при этом в силу дотационности большинства регионов значительная часть экономии доставалась Минфину.
Возражения в стиле «если вдруг, — под влиянием гениального фильма, например, — все выпускники пойдут в цирковые училища, при подушевом финансировании это будет означать уничтожение всей системы образования» даже не рассматривались, — как и любые другие профессиональные возражения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: