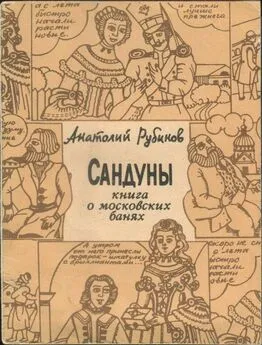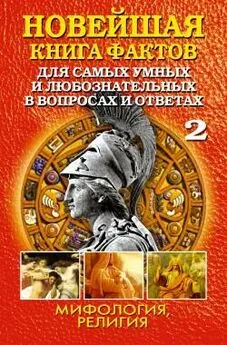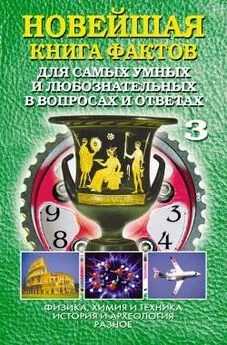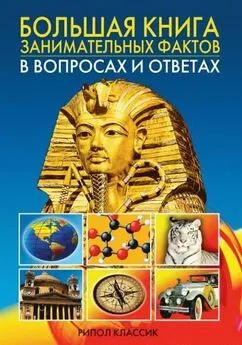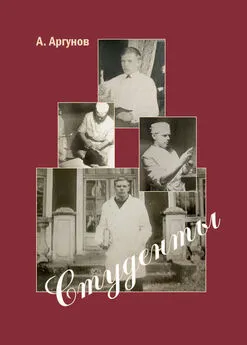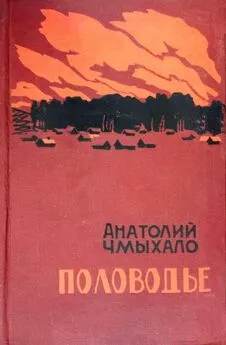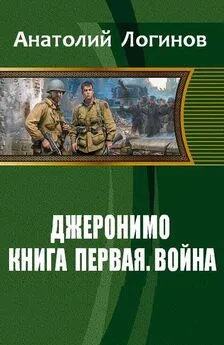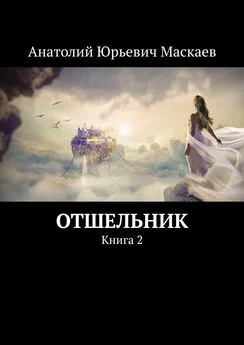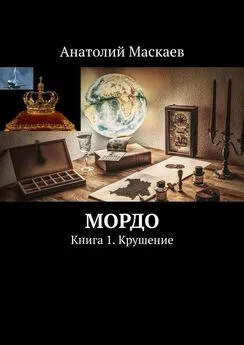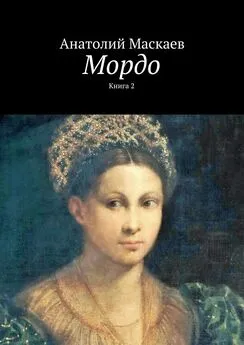Анатолий Рубинов - Сандуны: Книга о московских банях
- Название:Сандуны: Книга о московских банях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-239-00757-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Рубинов - Сандуны: Книга о московских банях краткое содержание
Сандуны: Книга о московских банях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Новый владелец повел себя как-то странно. Перво-наперво он сломал каменное жилое «двухэтажное строение в два этажа». Потом разобрал и деревянное жилое «об одном этаже». Сосед — титулярный советник Николай Григорьевич Дронов — смотрел на проделки бывшего придворного комика с ожиданием чего-то смешного: может быть, чудит, как и на сцене? А потом титулярный советник вдруг сам продал артисту свое крохотное владеньице в тридцать саженей с деревянным жилым домиком. Как свидетельствовал «депутат, коллежский асессор» Николай Юрьев, и это «строение все без остатку сломано, а земля оставлена пустая». Соседи мучились в догадках: что задумал? Не чудит ли? Сандунов не открывался и продолжал действовать: по дешевке купил участок сторожа соседнего Успенского собора Петра Михайлова. Там был двухэтажный дом — сверху деревянный, снизу каменный, и еще один деревянный. И это было сломано, а «земля осталась пустая». Это обстоятельство отметил в документе и «сличил землемер Евреинов». Последним сдался звонарь того же Успенского собора Михайла Кудрявцев. Сандунов разрушил и его три дома. А «земля осталась пустая»…
В Москве посмеивались: сильно разозлили Силу, коли он принялся рушить все подряд. Так пусть бы и ломал в Петербурге — при чем же здесь Москва? Не здесь же его обидели?
Владение Сандунова выросло вдвое, да только смех это, а не владение: огород и пустая земля — с улицы остался один дом, где живут артисты, откуда вечерами в театр ездят.
Стали, однако, обращать внимание, что артисты с некоторых пор ездить стали почему-то поодиночке. И в театре, перед представлением, слова друг дружке не скажут. А потом словно помирились.
Мало кто знал, из-за чего ссорились супруги и как они помирились. А все дело было в безбородковских бриллиантах, полученных после свадьбы. О них Сила Николаевич и слышать не хотел, видеть их не желал, Елизавета Семеновна, однако, продавать их не соглашалась. По чести говоря, те царские тоже были жалованы ей одной — ну уж ладно, землю купили. А шкатулку граф прислал ей. Сила Николаевич сердился, не разговаривал неделями, намекал даже, что не зря, видать, говаривали всякое, про нее и про графа. Елизавета же Семеновна красивым грудным голосом ссылалась на князя Юсупова — не зря, видать, говаривал князь и про Силу Николаевича, что он и гордец, и распутник, и пьяница. Вот даже домой ночевать иной раз не ездит. Будто бы в карты играет.
Кончилось, однако, миром. Чтоб избавиться от ненавистных безбородковских бриллиантов, решено было часть из них отдать в Воспитательный дом сиротам. Так всем и объявить, пусть знают, что Сандуновы не желают хранить такое добро, от которого одно худое. А другую продать. И построить бани. Самые большие в Москве. Богатые и красивые. Раз без простонародного отделения не обойтись — так требуют правила, то построить и простонародное. А главное — дворянское отделение и с зеркалами, и с мягкими диванами. Ну что это за дворянское в банях, в Грузинах-то! Срам, и никакого сравнения с петербургскими.
Сандунов не раз бывал в Грузинах. Поблизости от этих бань когда-то жил он сам — дед, Сандукели, поселился как раз здесь. Сказывали, что грузины — из-за них так и называли улицу, — грузины построили свои бани, какие у них в Тифлисе водятся. Но скоро Сандунов узнал, что в Тифлисе, где он ни разу не бывал, бани не такие.
Повстречался он в Москве с земляками деда — только что из Грузии приехали, сам их разыскал, к себе водил и в театр. Особенно подружился с грузинским поэтом Гавриилом Ратишвили — тот ни одного представления не пропускал. И занятно про тифлисские бани рассказывал. Там горячая вода сама из земли бьет, никто не греет — из земли уже горячая идет, да не простая. Глубокая, большая яма посредине. Люди в ней стоят, разговаривают, греются, потом ложатся на скамьи, их перчаткой натирают, а мыло взбивают полотняным пузырем. Сила Николаевич с трудом представлял себе — он привык к русским парным баням и не знал, что может быть лучше того, чем постегать себя разморенным в горячей воде березовым веником и окатиться потом холодной водой.
В скольких банях побывал Сила Николаевич — и в черных, торговых, простонародных, и домашних, семейных, белых, в домах богатых людей. В ту пору Николай Михайлович Карамзин написал, что в далекую старину славяне мылись будто бы всего три раза — при рождении, перед свадьбой да после смерти. Теперь русские люди мылись не меньше раза в неделю.
Сначала, говорят, только в печах мылись. Когда истопят печь пожарче, например, под хлебы, то как вынут их, возьмут воду, нагретую загодя, настелют под соломою, веник прихватят, распаренный до мягка. Для хорошего духу — небольшую посудину с квасом. А ежели жених или невеста перед свадьбой — то с пивом: еще запашистее. Улегшись в печи как способнее, велит человек заслонить за собой устье печи, прыскает по сторонам и поверху квасом ли, пивом ли. Всего лучше пучком соломы прыскать. Потом ее в воду окунуть и прыснуть снова — пару поддать себе, сколько надобно, а потом уже и париться. Выходит разопрелый человек из печи в сени или во двор — холодной водой окатиться. Непременно надо полежать потом — на лавке или на полу, на соломе. Отдохнув, помыться у печи со щелоком, а ежели опять на теле зуд почувствует, снова в печь лезть и париться в другой раз. Кто по старости или по болезням немощен бывает, так что сам в печь не в силах взлезть, то другие укладывают его на доску и как хлебы вдвигают. За ним полезает другой человек, чтобы парить и мыть слабого и дряхлого.
Но только народ все больше в бани ходит. Какие в деревнях, такие и в Москве на огородах ставят. Непременно у пруда, дверью у самой воды, с высоким, по колено, порогом и низким косяком — чтобы жар не исходил понапрасну.
В углу каменка — очажок, а на нем груда булыжного дикого камня, каким улицы мостят. С другой стороны — полок для парения. Под порогом — маленькое пустое оконце, чтобы вода на волю сходила. Сквозь нее и свет. Кто хотел париться в бане, так сам и топил — дым выходил вон из двери. Когда каменка прогорала совсем, только тогда и приходили мыться. Приносили ушатом горячую воду и щелок, брали с собой шайки и веники. А холодная вода всегда есть — за порогом стоит, в пруду. Летом и зимой раздевались на открытом воздухе, влезали в баню нагишом. Можно было мыться и вдвоем и втроем, однако париться по одному. Для того плескали воду на каменку — пар поддавали. Если он ослабевал — еще подкидывали воды. Кто парился, тот и плескал себе. Разгасившись и ослабев, вылезал человек из бани и — в пруд. Потом на траву ложился, если лето, или на снег, если зимой.
То были деревенские черные бани — потому что без трубы и были изнутри черные от дыма и копоти. Потом стали ставить и торговые бани. Торговые прозываются потому, что за мытье две копейки брали, как бы торговали мытьем. Много таких бань в Москве развелось. Один купец, Семен Борисов, в 1798 году взял у казенной палаты на содержание тридцать гнезд. Взял «на кондиции» бани Бабьегородские, Вишняковские, Драгомиловские, Самотечные, Якиманские, Трубенские, Пресненские, Андроновские, Потешные, Кудринские, Краснохолмские, Кожевнические, Спасские, многие другие — всего тридцать бань, и каждые либо у Москвы-реки, либо на другой речке — Неглинке, Хапиловке, Рожке, Яузе, либо на пруде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: