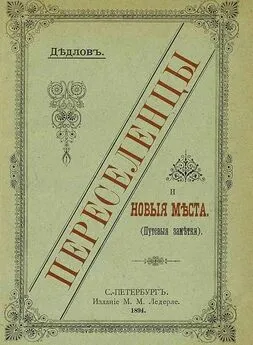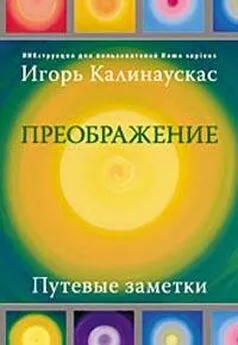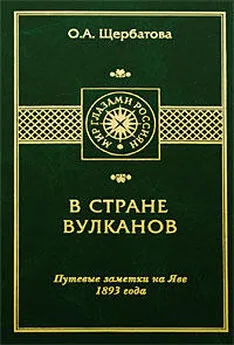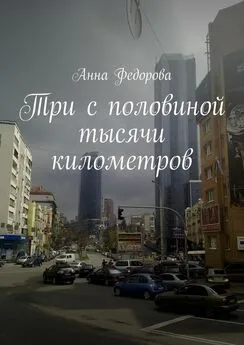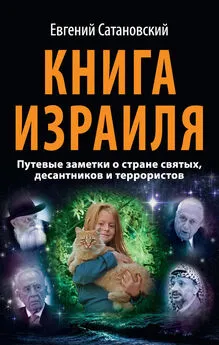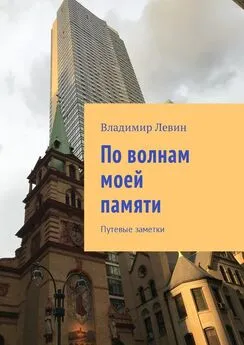Владимир Дедлов (Кигн) - Переселенцы и новые места. Путевые заметки.
- Название:Переселенцы и новые места. Путевые заметки.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание М. М. Ледерле и К°
- Год:1894
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Дедлов (Кигн) - Переселенцы и новые места. Путевые заметки. краткое содержание
Переселенцы и новые места. Путевые заметки. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Настает момент, не лишенный торжественности. Ныряя с горки в мокрую лощинку, из лощинки полной рысью въезжая на сухой пригорок, мы попадаем на самый гребень Урала. Позади — Азия, впереди — Европа. Позади в несколько рядов стоят синие горные хребты, разделенные могучими, просторными долинами. Впереди — глубокий провал, а за ним хребты гораздо ниже того, на котором мы находимся; тут на запад идет спуск с Урала. Направо, вровень с нами, немного выше, подымаются с некоторой претензией на живописность три Таганая: Большой, Малый и Круглый, он-же Лысый. Посреди, в провале, виднеются игрушечные домики и игрушечные церковки. Это — Златоуст...
Златоуст! — Талатта! Талатта!.. Я возликовал как десять тысяч греков, о которых в пятом классе гимназии мне рассказывал Ксенофонт... Слышите-ли вы этот свисток? — Это паровоз железной дороги. Видите-ли вы этого всадника? — Это не киргиз, не башкир, не калмык, а инженер путей сообщения, в тропическом шлеме и с pince-nez на носу. Заметили-ли вы проехавшую в тарантасе даму? — У нее есть талия, она не рыгает за обедом и не икает после обеда. А вот гостинница! У хозяйки тоже талия! К обеду дают салфетку! После обеда дают газету, хоть и дрянную, но все-же газету. Под окном играет шарманка. Положим, у нее какой-то со свистом, но все-же это не татарский мулла воет на минарете. За дверями в соседней комнате женский голос напевает, конечно, фальшиво, — но арию Зибеля. Как-бы там ни было, — талатта, чорт возьми, талатта! Тысячу двести семьдесят пять верст сделал я на лошадях и в «карандасе»; три с половиной недели ел без вилок и салфеток, и, вдобавок, один раз лечился у ветеринара. Дальше этого несчастье не может идти! Теперь всем этим прелестям «новых мест» конец. Слава Создателю!
Какое наслаждение чувствовать, что ты опять на «старине», что ты едешь на «старину». Прежде всего, хорошо было уже то, что я ехал не в тарантасе, а в вагоне. От вагона я отвык до того, что чуть было не стал описывать его внешний вид и ощущения езды в нем, точно моя публика — семипалатинские киргизы. Ехать было мягко, спокойно, быстро, — после тарантаса ужасно быстро. Можно было спать так удобно, как я ни разу не спал на общественных квартирах и в гостиницах. Но я не спал, прощаясь с Уралом и в ожидании того, что встретит меня по ту сторону гор.
Железная дорога вынесла меня из Урала быстро, но старые горы на прощанье показали себя во всей своей своеобразной красоте. Мы то мчались долинами рек, почти у самой воды; то медленно и с трудом переваливали через хребты; то ехали вдоль кряжей на половине их высоты. Ночь была холодная, всего +2°. На небе стоял яркий отрезок молодого месяца и точно бежал за нами, огибая горы и холмы, мелькая сквозь острые вершины лиственничных лесов, быстро переплывая воздушные промежутки между гор, — то отставая от нас, то забегая вперед. Но иногда месяц начинал меркнуть, меркло вместе с ним и чистое, звездное небо, — и мы выезжали в глухую, совершенно темную, мрачную ночь. Это зловещее превращение наступало, когда мы спускались в одну из бесчисленных уральских долин, которые залил непроницаемый холодный туман. Невольно становилось жутко, когда месяц сначала делался бледным, потом превращался в мутное пятно, а наконец исчезал и совсем. Изредка только, когда порыв ветра распахнет завесу тумана, месяц проглянет, осветит какие-то рогатые деревья, таинственно блеснет на какой-то черной воде, — и снова исчезнет. Холод, мрак, мутные очертания деревьев и камней — все это навевало странную поэзию. Что-то дикое, мрачное и страшно древнее смотрело на вас из холодного тумана, само за туманом невидимое. Припоминалась история самого Урала, припоминались «чудския копи», из которых какие-то люди до-бронзового периода добывали тут золото. Кто приходил к ним за этим золотом? Куда его отсюда увозили?.. Припоминался ряд башкирских восстаний, когда башкиры вырывали из могил тела русских мертвецов и бросали их в реки, чтобы и мертвых врагов выгнать из этой страны. Декорация была самая подходящая для этих воспоминаний... Поезд взбирался наверх, туманы оставались внизу, и картина становилась не такою мрачной, но зато и не такой поэтичной.
К восьми часам утра Урал уже кончился, и началась черноземная, правда, еще очень холмистая и лесистая, но уже земледельческая местность, похожая на море, успокоивающееся после бури. Успокоиваются горы, становясь все меньше; успокоивается и суровый север, который по уральским горам спустился на юг дальше, чем ему полагается. Деревья в лесах становятся разнообразней, и мало-по-малу леса из хвойных превращаются в лиственные, главным образом в дубовые и липовые. Поля занимают все большее и большее пространство; снова появляются пшеница, просо и гречиха; снова начинаются плантации подсолнечника. Но все-таки от времени до времени путь преграждается синеющими вдали кряжами холмов. Последний подымается перед самой Уфой. Целый час мы ползем на него, среди чудесного липового и вязового леса. Когда мы наконец на верху, мы видим, что очутились на самом краю скалистого берега Белой. Какой вид! Вот уж действительно благодать-то! Огромная величественная река, безграничные зеленые луга противоположного берега, уставленные стогами; дальше — черноземные поля с богатой жатвой, деревни, леса. В воздухе тепло, небо чисто, но не той зловещей чистотой, как в киргизских степях, — там и сям клубятся великолепные беломраморные облака, задерживая палящие лучи солнца и впитывая и сберегая воздушную влагу... Красавец-место, богатырь-место! В сравнении с ним тургайская степь представлялась мне каким-то кретином, а Урал старым-престарым, похолодевшим от дряхлости стариком. Вот она, настоящая Русь, — здесь, а не на тех глупых «новых местах», которые родили одну глупую инородчину, будучи не в состоянии произвести на свет кого-нибудь менее звероподобного.
Переселенцы
Переселениями заведует одно из «делопроизводств» («отделений») земского отдела министерства внутренних дел. В нем работают два чиновника. На местах, в пунктах, чрез которые идет переселение, именно в Самаре, Уфе, Оренбурге, Тюмени и Томске, находится по чиновнику. Эти именуются «чиновниками особых поручений при Земском отделе, командированными министерством внутренних дел» в те города и губернии, где они живут. Подчинены они прямо Земскому отделу, что ставит их в независимое положение на местах. Главная их задача — регистрировать проходящих вперед и назад переселенцев, выдавать им пособия на путевые надобности и давать маршруты в те места, куда переселенцы идут. Это летняя работа чиновников. Зимою им приходится содействовать переселенцам при водворении на новых местах: при покупке и арендовании казенных, частных и инородческих земель, при перечислении из старых обществ в новые, при возобновлении паспортов, при взыскании долгов, оставшихся на стороне и т. д. и т. д. почти без конца, потому что переселенцы относятся к чиновникам Земского отдела с доверием, и последним нередко приходится выслушивать просьбы, вроде того, чтобы запретить мужу пьянствовать, велеть жене не баловаться, приказать башкирам отдать свою землю переселенцам даром, отправить мужиков на казенный счет в индейские страны, и проч. Труднее всего приходится чиновникам в Тюмени и Томске, чрез которые проходит народу от 30 до 40 тысяч в лето [1] В 9З году чрез Тюмень прошло около 100,000 душ.
. Этих переселенческих контор я не видал. Меньше работы в Самаре, Уфе и Оренбурге, хотя все-таки чрез последний проходит до 15,000 душ. Тут переселенческие конторы помещаются при частных квартирах чиновников и состоят из одной, трех комнат. На стене портрет Государя, в углу образ Божией Матери путеводительницы, который переселенец отыскивает и на который молится, прежде чем поклонится чиновнику. Если переселенец сам образа не видит, он спрашивает: «А где же, твое степенство, у тебя Бог?» Один или два сосновых стола, такая-же полка, такие-же скамьи-прилавки. На столах разного рода бланки: даровых проездов по железным дорогам, удешевленных билетов, маршруты во все страны широкой матушки Руси, от пути в недалекую Челябу до настоящих «походов Кира и Александра»: в Мерв, в Самарканд, в «Бийский», на Амур, в Верный, в Кокчетав, за Байкал, — билеты, маршруты, книги для регистрации переселенцев, бланки расписок в получении пособий, которые летом пишутся десятками в день. «Дел» нет, потому что дела должны кончаться быстро. «Дела» заменены папками, в которых лежат по алфавиту фамилий «входящие»; «исходящие» могут быть отысканы тоже по алфавитной книге. В Самаре чиновник Земского отдела обходится без помощников. В Уфе есть письмоводитель. В Оренбурге письмоводитель и писец. Летом переселенческая контора открыта с 9 утра и до 9 вечера, и в ней и около нее, на улице, густая толпа. Войдемте в контору.
Интервал:
Закладка: