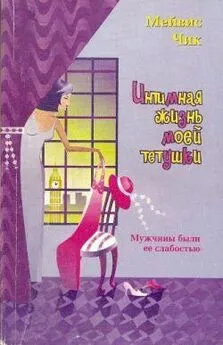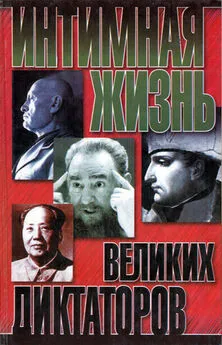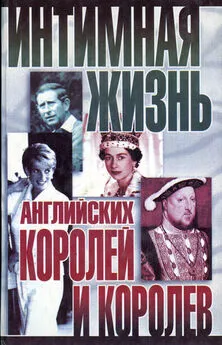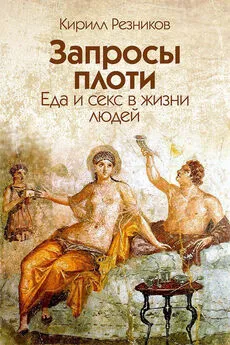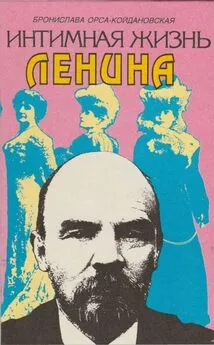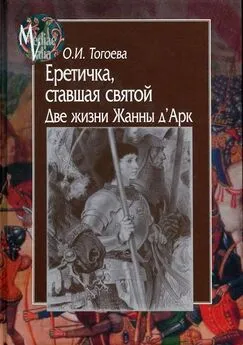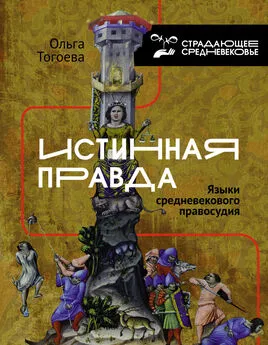Ольга Тогоева - Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики
- Название:Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-98712-838-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Тогоева - Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики краткое содержание
Книга адресована историкам, правоведам, филологам, культурологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей повседневности и частной жизни.
Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда Андром был коронован, то повелел незамедлительно схватить всех тех, кто, как ему было ведомо, считал худым делом, что он стал императором, и приказал выколоть им глаза, и замучить их и погубить их лютой смертью. И хватал всех красивых женщин, которых встречал, и насильничал над ними [345] Клари Р. де. Указ. соч. Гл. 21. § 18.
.
Поэтому во время «прогулки на осле» бывшему императору были предъявлены самые разнообразные обвинения:
И пока везли Андрома от одного конца города до другого, подходили те, кому он причинил зло, и насмехались над ним, и били его, и кололи его… при этом они приговаривали: «Вы повесили моего отца», «вы силою овладели моей женой!». А женщины, дочерей которых он взял силой, дергали его за бороду и так подвергали его постыдным мучениям, что, когда они прошли весь город из конца в конец, на его костях не осталось ни куска живого мяса, а потом они взяли его кости и бросили их на свалку [346] Там же. Гл. 25. § 22–23.
.
Неслучайно и кастрация в византийской традиции часто рассматривалась как знак добровольного или вынужденного отказа от претензий на власть. Так, рассказывая о паракимомене Василии, приближенном Василия II Болгаробойцы (958-1025), Михаил Пселл отмечал:
С отцом Василия и Константина у него был общий родитель, но разные матери. Из-за этого его уже в раннем детстве оскопили, чтобы сын сожительницы при наследовании престола не получил преимущества перед законными детьми. Он смирился с судьбой и сохранял привязанность к царскому и, следовательно, своему роду. Но особое расположение он чувствовал к племяннику Василию, нежно его обнимал и пестовал, как любящий воспитатель. Потому-то Василий и возложил на него бремя власти и сам учился у него усердию. И стал паракимомен как бы атлетом и борцом, а Василий — зрителем, но целью царя было не возложить венок на победителя, а бежать за ним по пятам и участвовать в состязании. [347] Михаил Пселл. Указ. соч. Кн. 1. § 3.
.
Похожая ситуация обыгрывалась и в «Слове о преподобном Моисее Угрине», являвшемся составной частью Киево-Печерского патерика, созданного под явным влиянием византийской традиции. Главный герой рассказа, попав в плен и оказавшись в Польше, подвергся домогательствам «одной знатной женщины, красивой и молодой, имевшей богатство большое и власть». Она предложила Моисею не только освободить его, но сделать своим возлюбленным, мужем и господином над всеми ее владениями. Он же категорически от всего отказывался: «Твердо знай, что не исполню я воли твоей; я не хочу ни власти твоей, ни богатства, ибо для меня лучше всего этого душевная чистота, а более того телесная». Перепробовав многие средства, но так и не сумев склонить Моисея к сожительству, дама приказала кастрировать его:
Однажды велела она насильно положить его на постель с собою, целовала и обнимала его; но и этим соблазном не смогла привлечь его к себе. Блаженный же сказал ей: «Напрасен труд твой, не думай, что я безумный или что не могу этого дела сделать: я, ради страха Божия, тебя гнушаюсь, как нечистой». Услышав это, вдова приказала давать ему по сто ударов каждый день, а потом велела обрезать тайные члены, говоря: «Не пощажу его красоты, чтобы не насытились ею другие». И лежал Моисей, как мертвый, истекая кровью, едва дыша- [348] Слово о преподобном Моисее Угрине // Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подг. Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. М., 1999. С. 48–53 (древнерусский текст), С. 152–157 (перевод).
.
Таким образом, мне представляется вполне возможным предположить, что понимание союза государя с его страной (или священника с его церковью) как символического брака, нарушение основ которого воспринималось как сексуальное насилие, сближало явление, политической измены с «обычным» адюльтером. Именно поэтому такие преступления и могли наказываться одинаково. Как следствие, данная аналогия присутствовала и в западноевропейской практике — как в судебной, так и в парасудебной.
Однако, наравне с идентичным использованием символики осла в политической и правовой культуре Античности и Средневековья, не стоит, как мне кажется, забывать и о том, сколь значимое место это животное занимало в культуре смеховой, комической, карнавальной, также в первую очередь направленной на — пусть и временное — попрание всех и всяческих церковных и светских норм и даже на отрицание власти в целом.
Поскольку осел изначально был связан с христианским культом, образами Девы Марии и самого Иисуса Христа, это животное весьма почиталось в средневековой Европе. Например, в Вероне в церкви Богородицы стояла статуя осла, внутри которой, согласно преданию, хранились останки того самого животного, на котором Христос въезжал в Иерусалим. Эту «богородицу-ослицу» несколько раз в год выносили из храма, и четыре монаха, одетые в архиерейские одежды, обходили с нею город. Во Франции повсеместно большим почетом пользовалась св. Аньес (т. е. св. Ослица) [349] Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 653–654.
. Но те же самые темы из года в год возникали и на городских карнавалах по всей Западной Европе, что, в частности, позволяло О.М. Фрейденберг говорить о параллельном заимствовании античной темы осла в христианском культе и в карнавальной культуре [350] «Одно и то же идеологическое начало оформляется и в виде мученичества и в виде эротики» (Там же. С. 653). О единой семантике образа осла, участвовавшего в праздновании карнавала, Пятидесятницы, а также в azouade, см. также: Grinberg M. Le nouage rituel/droit Les redevances seigneuriales (XIV–XVIII siècles) // Riti e rituali. P. 247–261, здесь P 249.
.
Собственно, уже в Византии символика осла как фаллического животного обыгрывалась не только в серьезном, но и в комическом ключе. Так, в 600 г. во время брумалий по Константинополю водили осла, на которого был усажен пародийный двойник императора Маврикия (539–602) в венце из чесночных стеблей. Сопровождавшая его свита распевала песню, высмеивавшую частную жизнь правителя [351] Ельницкий Л.A. Византийский праздник брумалий и римские сатурналии И Античность и Византия. М„1975. С. 340–350; Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. М., 1988. С. 164.
. При императоре Михаиле III (840–867) придворный шут Грилл пародировал патриарха, разъезжая по улицам города на белом осле. Сам василевс и его приближенные в одеждах архиепископов принимали участие в этом развлечении [352] Там же. С. 167.
. И даже когда речь шла о поругании преступника, судьи не обходились порой без участия мимов, как, например, в случае с узурпатором Иоанном в 426 г. [353] См. прим. 7.
Что же касается западноевропейской традиции, то интерес для нас, в частности, представляет справлявшийся во время Кёльнского фастнах-та специальный «праздник субдиаконов», во время которого избирался шутовской папа или шутовской епископ. Его усаживали на осла и в сопровождении какого-нибудь чина из низшего духовенства провожали в церковь, где в его честь звучала хвалебная песнь и отправлялось богослужение [354] Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего Средневековья. М., 2002. С. 99.
. (Илл. 8) Можно вспомнить и хорошо известные исследователям «ослиные праздники», во время которых животное, покрытое золотым покрывалом, водили по улицам города, а затем вели в храм, где производили над ним торжественную службу. Обыгрывая таким образом сцену въезда в Иерусалим, все высшее и низшее духовенство принимало участие в празднике и пело славословия ослу, подражая ослиному реву [355] Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 654; Gaignebet С. Le carnaval. Essai de mythologie populaire. P., 1974. P. 138–139.
.
Интервал:
Закладка: