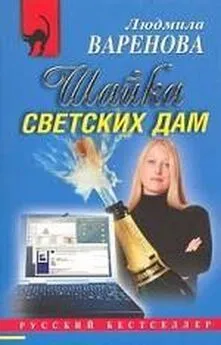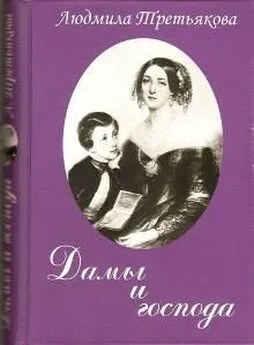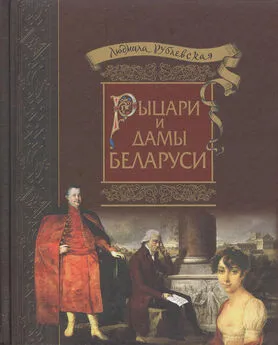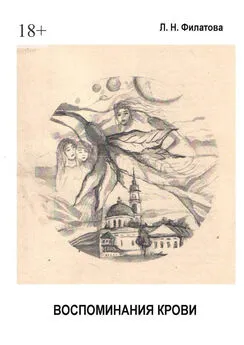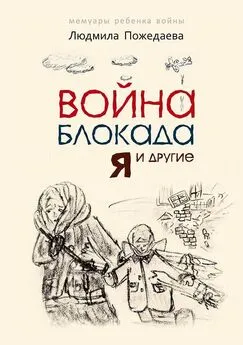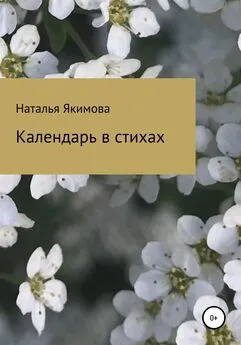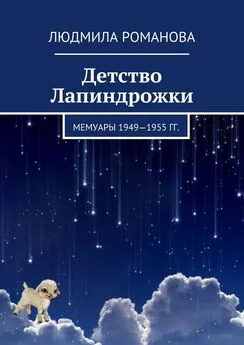Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы
- Название:Мемуары учёной дамы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы краткое содержание
Мемуары учёной дамы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Оказавшись далеко от родных мест, я потеряла возможность следить за судьбой своих однокашников по институту и аспирантуре, о чем очень теперь жалею. Но Ким Ильинич запомнился хотя бы потому, что был в нашей группе единственным мужчиной, и присутствие его невольно обостряло природу девичьего поведения, заставляло тщательнее следить за своим внешним обликом и лелеять расчеты на будущее. Имя его было аббревиатурой Коммунистического интернационала молодежи — и при первом взгляде на него нельзя было усомниться в том, что пороха на войне он понюхал. Синие точки, въевшиеся в кожу лица, его, однако, не портили, скорее романтизировали. От военной выправки, от его до блеска начищенных сапог, туго стягивающего талию ремня, кожаной планшетки, в которой носил он лекционные тетради, веяло каким-то артистическим щегольством: нас это восхищало, покоряло, магнетизировало. В армии он был политруком, по-видимому, привык быть на виду, впереди, а тут впереди все время оказывалась девчонка; его армейское честолюбие страдало, я ощущала его неприязнь и на проявление каких-либо чувств другого свойства рассчитывать с его стороны не могла.
Теперь-то хорошо понимаю, что жизнь поставила нас в неравные условия: все мы, пришедшие в вуз сразу после школы, оказались в преимущественном положении перед ними, фронтовиками, на несколько лет оторванными от мирной жизни, от регулярного общения с книгой. Чтобы адаптироваться в студенческой среде, Ильиничу надо было перешагнуть через ту пропасть в знаниях, которая возникла за время войны, наверстать упущенное, вспомнить забытое. А я уже закусила удила, это придавало новой ступени моей жизни эмоциональный тонус, и не удивительно, что при моей далеко не блестящей памяти не ушли из нее даже отдельные семинары, их ход и перипетии. Отчетливо помню тот, на который пришла впервые после трамвайной травмы. Семинар вел З. Е. Либинзон, темой его была роковая для литературоведения проблема авторства. Преодолевая тьму веков, отважно, ничтоже сумняшеся шли мы на окончательное и бесповоротное решение вопроса о том, кто же скрывается за именем Шекспира — бедный актер, или знатный граф Рютленд, или, быть может, известный философ Бэкон. И, как правоверный сторонник социальной справедливости, Ким был за «бедных», а я, выходит, за «богатых».
Социально-идеологическая конъюнктура проникала всюду, всевластно господствовала она и литературоведении. Непосредственно же в советской литературе защитная сила бедности и происхождения из низов нашла свое выражение в феномене выбора псевдонима писателями. Если судить по ним, ни в одной литературе мира не было такого количества писателей, прорвавшихся к свету культуры из бездны горькой нужды, бездомности и безвестности: Максим Горький, Демьян Бедный, Максим Горемыка, Степан Скиталец, Павел Низовой, Иван Приблудный, Михаил Голодный... Типичный для советской литературы характер такого выбора точно схватил М. Булгаков, наделив своего героя из числа советских поэтов именем Ивана Бездомного. Кстати сказать, не было, пожалуй, в советской литературе писателя более богатого, чем Бедный Демьян.
В стране, на протяжении одного века прошедшей через три войны и три революции, логика человеческого поведения в рамках связки богатство — бедность проделала поистине немыслимые курбеты. Макар Девушкин стыдится бедности, герои советской литературы боятся даже просто обнаружить зажиточность, герои нашего времени богатства своего не боятся и не стыдятся, они им кичатся.
Родные
Моя личная анкета безукоризненно соответствовала духу того времени. В графе «социальное положение» я с чистой совестью писала: «из рабочих». Так оно и было: когда я родилась, папа успел влиться в ряды передового класса нового общества и потом до конца жизни профессионально рос: без отрыва от производства проходил курсы повышения квалификации, заканчивал школу рабочего мастерства, что вкупе с его золотыми руками дало замечательный результат, обеспечило ему, человеку скромному, тихому, неразговорчивому, авторитет настоящего мастера. Мастером, позднее начальником цеха завода «Красная Этна» он стал по должности, но мастером своего дела он был всегда. На войну его не призвали: на заводе он был нужнее.
Но это, как говорится, была одна сторона медали. Другая же состояла в том, что родом он происходил из раскулаченной семьи, что тщательно скрывалось от общественного мнения, но о чем папа охотно рассказывал маме и к чему с любопытством прислушивалась я. Оказывается, дед мой Павел Викулович до революции, кроме того что занимался хлебопашеством, держал породистых лошадей для извоза в большом селе Василькове, ставшем потом Чкаловском. Во время коллективизации коней реквизировали и отвели на общую конюшню вместе во всем извозчичьим инвентарем — розвальнями, дрожками, упряжью, где лошади погибли от голода, а все остальное оказалось разворованным. Этого деда я видела, он приезжал к нам. Мама звала его «Выкулыч» и, кажется, недолюбливала. И было за что. Он не скрывал деревенской снисходительности к городскому образу жизни, когда на столе все «покупное», и, развалившись по-хозяйски на стуле перед кипящим самоваром, самодовольно произносил: «Ну, сноха Авдотья, покажи, как ты умеешь угодить свекру...» Папа был не в отца и такого его своеволия стеснялся. Кстати, «Выкулыч» после смерти первой жены, моей бабушки, женился и от второго брака имел детей. Его дочь Александра со своим сыном тоже приезжала к нам, останавливаясь иногда на несколько дней. Причины появления в городе были уважительными: надо было продать на Канавинском рынке привезенную картошку, соленья, молочные продукты, а однажды поводом для долгого постоя у нас в доме явилось устройство подросшего мальчика в Горьковское речное училище. Мальчик был длинненький, стройный, спокойный. Мать изо всех сил старалась придать ему перед экзаменом достойный вид: отвела в парикмахерскую, отгладила одежду. Уехав из Горького, я всю эту дальнюю родню из виду совсем потеряла, только однажды узнала от Али, что мальчик тот сделал на избранном поприще удачную карьеру, стал чуть ли не адмиралом. Если действительно есть среди наших адмиралов Якимов, то это тот самый мальчик, уходивший на свой ответственный экзамен из нашего дома.
Деда по маминой линии я не видела, его уже не было в живых, когда я родилась, но по обоюдным воспоминаниям бабушки Марии Алексеевны Гаськовой и мамы я поняла, что до революции он владел каким-то небольшим кожевенным производством, что образованную бабушку выдали за него по причине какой-то тайной ее девичьей провинности. Потом доходили до меня какие-то глухие слухи, что дело было не в ее собственном грехе, а, наоборот, что она сама явилась запретным плодом любви купеческой дочери, сбежавшей с артистом цыганского ансамбля, и, действительно, что-то неуловимо цыганское проглядывало в облике моей бабушки, «бабусеньки», как называла я ее, — и в гибкости фигуры, и вьющихся темных волосах, и живых, выразительных глазах под черными, красиво изогнутыми бровями. С годами в ее лице все отчетливее проступали черты иконописности. Когда смотрю панфиловский фильм «Васса» с главной героиней в исполнении И.Чуриковой, не оставляет меня равнодушной прекрасно сыгранная сцена цыганского разгула в купеческом доме и тот манящий мир цыганской вольности, под впечатляющее воздействие которой попадают купеческие дочки, и почему-то всегда при этом всплывает в памяти образ моей бабушки-бабусеньки. Став женой Алексея Гаськова, о котором никаких впечатлений у меня не сложилось, она родила четырех дочерей и сына, но в этой большой семье среди детей и внуков выглядела чужой, даже посторонней. Она была «другая» — тоньше, цельнее, образованнее своих детей. Революция прочертила между ними непреодолимую границу: ее дети были больше детьми трудного, противоречивого, во многом «непонятного», как любил выражаться Всеволод Иванов, времени. Никто из них не получил сколько-нибудь значимого образования, зато каждый в полной мере испытал рвущее на части воздействие, с одной стороны, старорежимной семьи, с другой — лозунгов революции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: