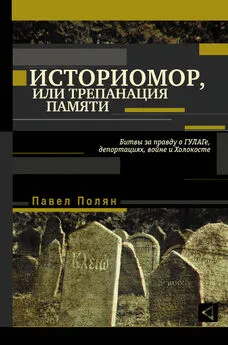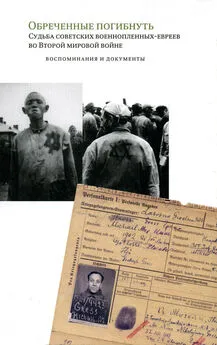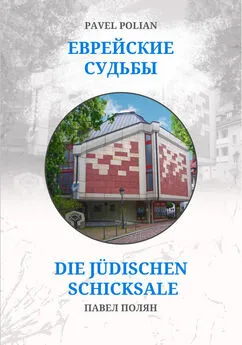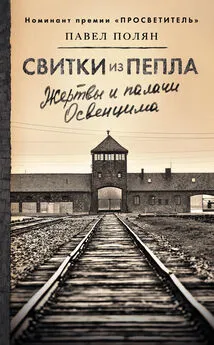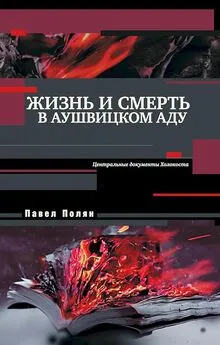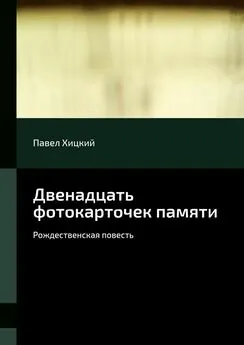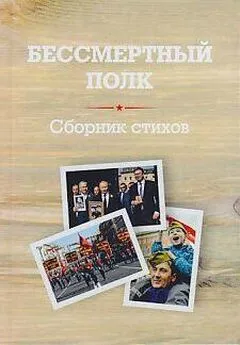Павел Полян - Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте
- Название:Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-098145-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Полян - Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте краткое содержание
Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все это не столько реабилитация Сталина, сколько панегирик нынешней власти и государству. Сталинский же усатый профиль надежно запрятан в образе его великих побед, в частности, победы в Великой Отечественной. Память о войне, быть может, искажена у нас больше всего – и именно потому, что это память не о войне, а о победе. В нее не умещался никогда, например, плен. А память о победе без памяти о цене победы не может быть не просталинской. Иными словами, память о войне стала местом «генерального сражения» двух форм памяти – государственно-мифологической и собственно исторической.
Хороший доклад сделал и Олег Хлевнюк, представлявший ГАРФ. Опираясь на сотни публикаций и тысячи пропущенных через себя документов, он попытался подвести итоги и обозначить историографические проблемы изучения сталинизма. Мобилилизационные методы, сказал он, доводили дело до абсурда, а потом и до кризиса. Он же подчеркнул роль ведомственности как рабочего механизма сталинизма, а следовательно и межведомственных конфликтов. Один из выводов Хлевнюка: тезис об эффективности сталинского менеджмента никак не обоснован и исторически не оправдан. (Немного смутил, правда, термин самого докладчика «избыточная репрессивность»: а разве установлена «нормальная»?)
В выступлении директора Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна запомнились разве что лисья сверхосторожность в выборе выражений. Он предлагал соблюдать дистанцию и построже разграничивать сталинизм и советизм, и также его пан-европейский тезис: в ренессансе глорификации вчерашних диктаторов (например, Франко или даже Муссолини), мол, ничего необычного нет, это не российское, а паневропейское явление.
Дальше всего от темы форума оказались импровизации директора Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова о сталинизме и национальном вопросе («национальном ответе» в его терминологии) в советское время [23] Он был единственным докладчиком пленума, чьи фактографические неточности благожелательная, но просвещенная аудитория позволяла себе не без раздражения поправлять.
. Сталин отстаивал национально-культурную автономию, и в результате из названия государства выветрилась Россия, а народ стал каким-то советским. Но народ, по Тишкову, слово без множественного числа, а Путин единственный в мире политик, пользующийся словом «этнический». Не может народ состоять из других народов, и полиэтничность – это чуть ли не рок и заклятие России. В языковой политике Наркомнац задавил Наркомпрос, и в результате из 70 младописьменных языков мира – 50 приходится на осчастливленные ими народы СССР.
Он точно подметил, что пушкинско-ельцинское словцо – «россияне» – при Путине ушло из языка. Сокрушаясь по этому поводу, он с отчаяния даже в хулиганствующих фанатах, беснующихся всю ночь после победы, углядел зародыш правильного этнологического инстинкта – склонность к братанию и россиянству. Закончил он словно загадку отгадал: «единство в многообразии» – эта свежайшая формула времен Витте и Струве – и есть наш правильный национальный «ответ» на неправильный национальный «вопрос». Собственно, он призывал европеизироваться и, разведя национальность с этничностью, выдать ее замуж за гражданство. Только неясно, чем конкретно такое вот хвалимое «россиянство» отличается от хулимой сталинской «советскости»?
Казалось бы – в первый день самое время определиться с понятиями, которыми потом будут пользоваться или на которые будут хотя бы оглядываться все участники. Тот же сталинизм, о который уже обломали зубы десятки историков за рубежом, – что же это такое?
Как хорошо прозвучал бы на пленуме, например, блестящий доклад Сергея Красильникова (Новосибирск) из программы одной из секций! [24] См. видеозапись на сайте «Полит. ру»: http://www.polit.ru/culture/2008/12/31/videon_stalinism_2_1.html
Вот его дефиниция: «Сталинизм – диктатура идеократии плюс социальная мобилизация». Здорово и небесспорно, но так для того и обсуждения! Уместен был бы на таком гипотетическом пленуме и доклад Николя Верта (Париж), сделанный на той же секции, что и красильниковский. Он говорил о соотношении массовых и политических репрессий при Сталине и об одновременном стирании границ между репрессиями и не-репрессиями.
На деле же пленарное заседание, построенное на номенклатурном песке, оказалось непомерно раздутым, перегруженным и, даже при классном докладе Рогинского, не слишком удачным.
Административная инфраструктура конференции явно была рассчитана на то, чтобы впечатлять. Взять хотя бы ее рабочий орган – оргкомитет. Сначала идут институциональные соорганизаторы: Уполномоченный по правам человека в РФ, Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Государственный архив Российской Федерации, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Издательство «Российская политическая энциклопедия», Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» [25] Это уже определенный прогресс. Среди титульных организаций документального 7-томника «История сталинского ГУЛАГа» места для «Мемориала» и вовсе не было. См. нашу рецензию: Новые карты архипелага ГУЛАГ. [Рец. на изд.: История сталинского Гулага. В 7 тт. М.: РОССПЭН, 2004–2005] // НЗ. 2006. № 2. С. 277–286.
, а также – с непонятным статусом партнеров – две европейские организации: Германский исторический институт и Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве. Затем – персональный состав оргкомитета, представленный первыми лицами названных институций с добавлением еще и Пихои Р.Г. (заведующего кафедрой Российской академии Государственной службы при Президенте Российской Федерации), Тишкова В.А. и Хлевнюка О.В. (еще одного представителя ГАРФ). Аналитик-конспиролог тут же заметит, что оба профильных академических института – и всемирной истории, и российской – в одном оргкомитете с «Мемориалом» на всякий случай светиться не стали. Затем идет длиннющий ряд неких институциональных «представителей», список которых практически тождественен списку организаций, в которых трудоустроены докладчики [26] Есть еще и информационные спонсоры (но это как раз нормально): Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), ИТАР-ТАСС, РИА Новости, Радио России, Радио «Эхо Москвы», «Независимая газета», «Новая газета», журналы «The New Times», «Огонек» и «Родина».
.
Устроители мыслили себе работу конференции сконцентрированной на шести основных, по их мнению, направлениях [27] В скобках – руководители соответствующих секций.
: 1) Политика. Институты и методы сталинской диктатуры (О. Хлевнюк, Москва и Й. Горлицкий, Манчестер); 2) Политэкономия сталинизма (Л.Бородкин, Москва и П. Грегори, Хьюстон); 3) Человек в системе диктатуры: социокультурные аспекты (Е. Зубкова, Москва; Д. Фильцер, Лондон); 4) Национальная политика и этнический фактор (Т. Красовицкая, Москва, и Ю. Слезкин, Беркли); 5) Международная политика Сталина (А. Грациози, Неаполь; С. Понс, Рим, А. Ватлин, Москва и М. Крамер, Гарвард); 6) Память о сталинизме (И. Щербакова, А. Рогинский и С. Мироненко – все Москва). По каждому из направлений при этом фиксировались бы достигнутый уровень научных знаний, наличие общепринятых и спорных вопросов, дискуссий, источниковые лакуны, перспективы развития научной историографии.
Интервал:
Закладка: