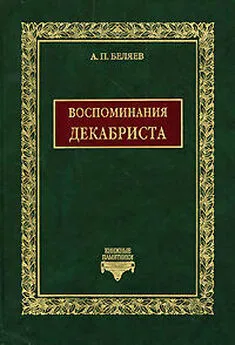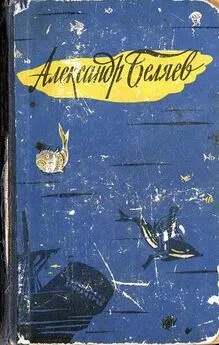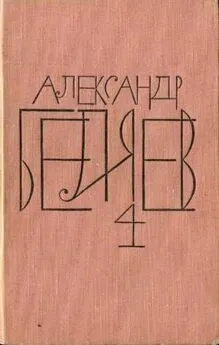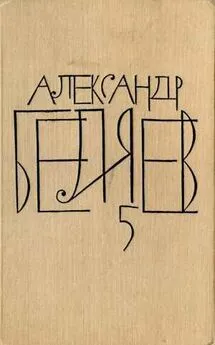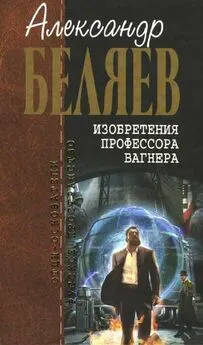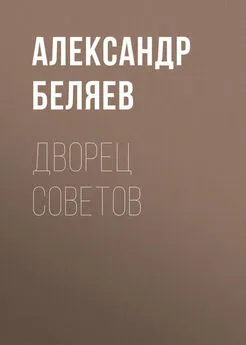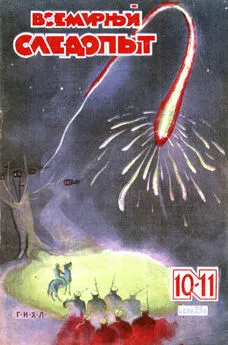Александр Беляев - Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1
- Название:Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Беляев - Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1 краткое содержание
Среди обширной литературы, посвященной восстанию декабристов, воспоминания Александра Петровича Беляева занимают особое место.
Беляев являлся непосредственным участником событий 14 декабря 1825 года, был осужден к 12 годам сибирской каторги, а в 1840 году, по собственному прошению был записан рядовым в Кабардинский егерский полк Кавказской армии. За несколько лет пребывания в Сибири бывший заговорщик и вольнодумец превратился в образцового христианина и верноподданного. Более того, автор считает, что большая часть известных ему лиц, вполне осознало "всю пагубу и всю ложь своих революционных идей".
В предисловии, написанном в 1879 году, автор указывает, что "быть может эти "Воспоминания…" отрезвят некоторых из нынешних непрошенных радетелей народа, который они стараются перевести сначала в скотообразное, а потом в зверинообразное состояние, лишив его Бога, алтарей, семьи, всего святого и благородного, а потом, возбудив к самоистреблению посредством грабежей, убийств, разврата, — тем сделать свое Отечество легкой добычей западных ненавистников наших, их вождей, учителей и повелителей".
Воспоминания автора охватывают более чем 50-летний период его жизни, иллюстрируя историю нашего народа в богатом на события XIX веке.
Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не помню, в 1844 или в 1845 году Полтинин был назначен бригадным командиром и на его место поступил командир полка полковник Генерального штаба Михаил Николаевич Бибиков, прекраснейший и благороднейший человек, но он командовал полком очень недолго. В известной экспедиции, под командой графа Воронцова, в 1855 году, он сначала был просто ранен, но, переносимый на носилках к перевязочному пункту, был вторично поражен двумя пулями и умер. Тело его перевезли во Владикавказ, где с подобающими почестями и похоронили; его провожало все население Владикавказа. Он был женат на прелестной молодой женщине, умной, любезной и чрезвычайно талантливой. Ее ум, красота, таланты, обращение были восхитительны, и дом ее был самым приятным приютом в нашей жизни во Владикавказе. Она рисовала на стекле, и можно сказать, что эти произведения ее досуга были действительно художественны по изяществу исполнения. Уже после нашего отъезда я узнал, что она вышла замуж за артиллерийского офицера Есакова, очень умного и образованного молодого человека, который был приятелем ее мужа и по смерти его уже видно было по его беспрерывным посещениям, что он ему наследует. Не знаю, были ли они счастливы, но по наружности, кажется, все обещало, что выбор Софьи Николаевны (сколько помню) был хорош.
После Бибикова полк наш принял полковник барон Ипполит Александрович Вревский. Знакомство наше началось с самого начала нашего пребывания на Кавказе. Вревский был дружен с Михаилом Александровичем Назимовым, который и познакомил нас с ним. С самой первой нашей экспедиции и до самого выезда нашего судьба соединяла нас с бароном И.А. Вревским везде, начиная со Ставрополя, потом в чеченских и дагестанских экспедициях, в отряде под Ойс-Унгуром и особенно во Владикавказе, где уже мы служили под его начальством, как нашего полкового командира, и где сблизились с ним еще более. Барон Ипполит Александрович Вревский был, могу сказать, одним из образованнейших и умнейших людей своего времени. Помнится, что он кончил курс или учился в Дерптском университете, где слушал также курс медицины, знал многие иностранные языки, был очень любознателен, имел чрезвычайно многосторонние познания и специально изучил военные науки. В приемах своих он был очень оригинален и несколько застенчив, что к нему удивительно как шло. Небольшого роста, брюнет, с проницательными карими глазами, правильными, несколько южными чертами, тихою, как бы вкрадчивою поступью, он, тем не менее, был очень живого и веселого характера. По его уму, многосторонним познаниям, по его вполне геройскому мужеству и страсти к военной боевой службе я тогда еще предсказывал ему великую военную роль в будущем, и если б не ранняя смерть его в лезгинском горном походе 1859 года, я и до сих пор уверен, что, проживи он долее, то, без сомнения, был бы одним из замечательнейших русских военноначальников. Вревский с самого начала не довольствовался одною штабною службою, а всегда в делах, по его собственному желанию, командовал батальоном и всегда старался выбирать самые почетные по опасности позиции. Как теперь смотрю на него в левой цепи в одной из горных экспедиций с Куренским батальоном, на огромной высоте, в страшном огне, прокладывающего себе дорогу. Я восхищался его хладнокровием и мужеством. Невозмутимо спокойный, с коротеньким чубуком в зубах, он шел вперед, разрушая завалы и все преграды самой дикой природы. Однажды также один из батальонов его Навагинского полка вел оказию, в которой находился и он. На дороге он был окружен огромною партиею горцев; бывшие тут в оказии, конечно, оробели, ожидая дурного исхода, но он хладнокровно переезжал от одного фаса к другому, распоряжался отчетливо и так успешно, что неприятель был отбит и "оказия" приведена благополучно. Как я упомянул выше, он слушал в Дерпте курс медицины, и отмечу как особенность: он имел охоту Петра Великого рвать зубы. Однажды, когда мы были у Суслова, командовавшего Гребенским полком в Червленной станице, между нами был также уже знакомый читателю по Науру граф Штейнбок, у которого сильно болел зуб; вдруг слышим колокольчик и подъехавший экипаж, а затем входит Ипполит Александрович; поздоровавшись со всеми, он, увидев страдания графа, тотчас же предложил ему выдернуть зуб; тот, хотя, быть может, и усомнился в его искусстве, однако ж, мучимый болью, согласился. Он немедля достал инструменты, которые возил с собой, и операция мгновенно была совершена вполне успешно, и как благодарен был ему его пациент!
Приняв полк, барон Вревский купил свой дом на Большой улице. Все приезжавшие в Тифлис или из Тифлиса были гостями Вревского. Тут можно было видеть цвет петербургского военного общества или, лучше сказать, цвет русской армии. У него я познакомился со многими тогда еще молодыми людьми, которые впоследствии занимали, а некоторые еще продолжают занимать высокие посты в государстве. Между ними помню прославившегося во всем свете знаменитого комиссара в освобожденной Болгарии князя А.М. Дундукова-Корсакова, тогда еще молодого адъютанта главнокомандующего графа Воронцова; помню также двух братьев Глебовых, старший из коих был героем дня, так что в Петербурге что-то из принадлежностей дамского туалета называлось a la Gleboff, и потом был убит в каком-то деле. О его смерти мне писал Ипполит Александрович Вревский в Россию, называя его "русским баярдом". Был также, кажется, еще полковником, флигель-адъютантом Николай Васильевич Исаков, граф Штейнбок, который жил одно время в Науре у полкового командира Аминова и с которым мы были коротко знакомы и вместе были в некоторых экспедициях; опять я должен сказать, что это был очень умный, приятный и благороднейший человек. К Ипполиту Александровичу он заехал проездом, уже на деревяшке лишившись ноги в воронцовскую-даргинскую экспедицию. Штейнбок был большой остряк и шутник… Во Владикавказе начальником округа был генерал Петр Петрович Нестеров, высокий ростом красавец в полном смысле и опять-таки прекраснейший человек. Мы у него иногда бывали и часто виделись с ним у Вревского. Жена его была очень хороша собой, а также и ее сестры, при нас еще девицы. С благодарностью должен вспомнить при этом, что, по моему ходатайству, Нестеров возвратил из Сибири одного черкесского князя, жившего с другими черкесами в Минусинске, о чем я упоминал в своих сибирских воспоминаниях.
Случилось как-то, что у Ипполита Александровича Вревского съехались в одно время многие из упомянутых мною молодых изящных военных, и он вздумал устроить импровизированный бал.
На задуманном Ипполитом Александровичем бале были, конечно, все знакомые семейства. Из дам были: вдова Софья Николаевна Бибикова, жена начальника округа с сестрами, Ознобишина, с сестрой княжной Орбельяни, Мылова, Вера Максимовна, с племянницей, Павленковы, сколько помню, и другие. Помню только, что все дамы и девицы, бывшие на вечере, как нарочно отличались красотой и грацией. Открылся бал очень оригинально: польским; в первой паре шли вдова Софья Николаевна Бибикова с безногим графом Штейнбоком. Других танцев, уж конечно, они танцевать не могли: граф так как, на деревянной ноге, Софья Николаевна по причине траура; все остальные танцевали до упаду, и весь вечер до поздней ночи был самый оживленный и приятный, оставивший во всех самое приятное воспоминание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: