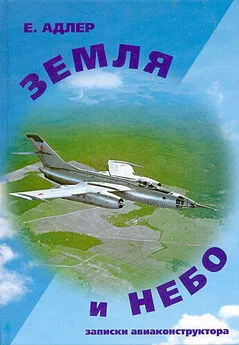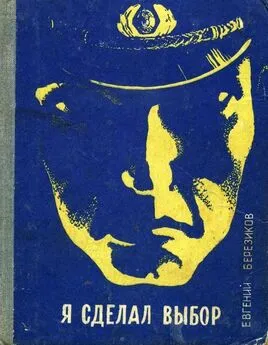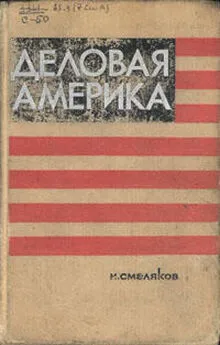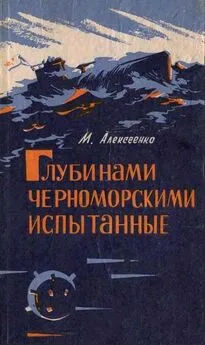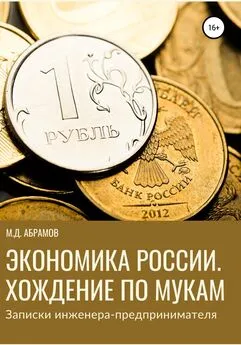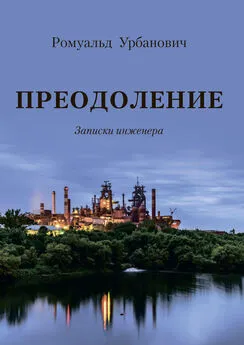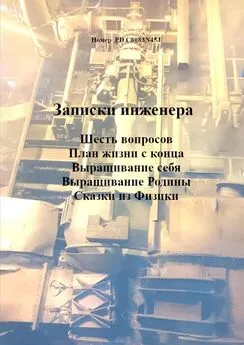Евгений Вагин - Полигоны, полигоны… Записки инженера испытателя
- Название:Полигоны, полигоны… Записки инженера испытателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РФЯЦ ВНИИЭФ
- Год:1999
- Город:Саров
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Вагин - Полигоны, полигоны… Записки инженера испытателя краткое содержание
Автор: В воспоминаниях я коснусь тех вопросов, которыми занимался в силу должностных обязанностей. В период 1948–1962 гг. мне приходилось участвовать в проектно-конструкторских работах, экспедициях на полигоны, общаться с интересными людьми. Кстати, в публикациях, появившихся после рассекречивания города Арзамас-16, в основном описана деятельность ученых и руководителей высокого ранга, я же ставил целью показать труд рядовых инженеров, конструкторов, техников и рабочих, с которыми мне пришлось трудиться над решением той или иной задачи, что исполнителями "атомной проблемы" являлись не только руководители того или иного коллектива, но в первую очередь — рядовые инженеры, техники и рабочие-специалисты.
Полигоны, полигоны… Записки инженера испытателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1947 году по настоянию С.Д. Павлова я вступил в коммунистическую партию. В этом же году я участвовал в выборной кампании в качестве секретаря избирательной комиссии.
Директором техникума был Гребенюк Михаил Иванович, подтянутый, крепкого телосложения, носил военную гимнастерку, галифе, сапоги. Почему-то имел право на постоянное ношение оружия, так что всегда у него на поясе была кобура с браунингом. Контингент студентов набора 1945–1946 гг. состоял из демобилизованных и рабочих с заводов двадцати лет и старше. Это придавало техникуму солидный вид, и наши выпускники ценились очень высоко.
Учеба мне давалась легко по всем предметам, что по высшей математике, что по спецпредметам, включая азбуку Морзе (прием на слух и передача на ключе). Без особых трудностей с отличными отметками я подошел к госэкзаменам, сдав их тоже на «отлично», и получил диплом с отличием 2 июля 1948 года.
По окончании техникума я представлял себе работу по восстановлению радиоузлов, радиостанций, радиосетей на территории, бывшей под оккупацией фашистов, но судьба распорядилась иначе. Перед госэкзаменами в техникум приехал представитель ПГУ при Совете Министров полковник КГБ Максимкин (имя и отчество его я не запомнил). Просмотрев личные дела выпускников, он вызывал отобранных людей на собеседование. Со мной разговор был короткий, так как я был членом КПСС. Мне было предложено работать в центре европейской части СССР, на что я дал согласие. Было сказано, что из Москвы придет вызов, тут же я получил аванс 800 рублей и заполнил анкету в 12 страниц.
Таким образом, все отобранные Максимкиным выпускники разъехались по своим назначениям: кто-то в Малоярославец, ставший потом Обнинском, кто-то в Глазов, Кирово-Чепецк. Двое моих приятелей Сева Дербышев и Владислав Аверьянов оказались на стажировке в Москве, в лаборатории № 1 (или «девятке"), которой руководил А.А. Бочвар. После стажировки они попали на комбинат в Челябинск-40 (затем Челябинск-65, сейчас Озерск). Не приходил вызов только мне и Ф.И. Сергееву с проводного отделения. В сентябре аванс, полученный при распределении, кончился, и мы с Сергеевым решили позвонить в Москву по телефону, оставленному полковником. Из Москвы ответили, чтобы мы не волновались, вызов будет.
Путь-дорога
В начале октября 1948 года мы наконец получили вызов, обязывающий нас явиться по адресу: Москва, ул. Солянка, 11, комната такая-то, к товарищу такому-то. Там мы получили направление к Солнцеву Ивану Ивановичу на Цветной бульвар, 12. Сергеев решил сразу туда ехать, а я хотел встретиться с друзьями, которые были в Москве на стажировке. Адрес у меня был, и я поехал в Покровско-Стрешнево, где они снимали комнату в «финском» домике. Хозяйка этого дома, жившая с мужем-фронтовиком и двумя сыновьями, оказалась секретарем самого Бочвара.
Приятели уговорили меня попытаться устроиться в лаборатории Бочвара, чтобы потом всем вместе поехать в Челябинск-40. Хозяйка любезно согласилась помочь с трудоустройством и разрешила поселиться на веранде с приятелями. После первых переговоров в отделе кадров дело оказалось не таким уж простым, пришлось какое-то время подождать решения. А пока я помогал мужу хозяйки, Иннокентию Евлампиевичу Петропавловскому, по дому и в огородных работах. До войны он играл в футбол за «Спартак», а став инвалидом, играть уже не мог, но остался страстным болельщиком, и мы часто ходили на стадион «Динамо», куда его, по старой памяти, пускали бесплатно через служебный вход. С тех пор и я стал болельщиком «Спартака».
Вылет на объект
Наконец по прошествии трех недель меня пригласили на переговоры. Товарищи рассказали, как добраться до проходной. Взяв документы, я смело отправился в лабораторию № 1. На проходной меня задержал солдат и велел ждать. Через некоторое время подъехал «ЗИМ», из него вышел человек в гражданской одежде. Часовой доложил ему о моем задержании, после чего он обратился ко мне. Я рассказал, кто я и как оказался здесь. Он, посмотрев в мои документы, сказал:
— Чтоб тебя здесь не было. Отправляйся туда, куда получил назначение. Я завтра же проверю.
И велел часовому отпустить меня. Вечером из разговора с ребятами выяснилось, что я попал не в первую, а во вторую лабораторию.
На другой день я отправился на Цветной бульвар к Солнцеву. Встретили меня очень хорошо, и вопросов, почему опоздал, не задавали. Единственное, о чем спросили, нужны ли деньги. Я не отказался. Так как Москву я знал неважно, мне было предложено к шести часам прийти в контору, откуда на грузовой машине меня доставят вместе с грузом в аэропорт Внуково. Я согласился и к 9 часам утра 25 октября был в аэропорту. Пассажиров, человек десять, повели к самолету — старенькому транспортному ЛИ-2 (копия американского Дугласа). Все расположились на откидных алюминиевых сиденьях вдоль борта самолета. На мой вопрос, куда мы полетим, кто-то из пассажиров ответил: «На базу 112». Такой ответ мне ясности не внес, оставалось ждать прилета на место, где я и узнал, что база 112 — это КБ-11.
Городок в то время
Левый борт самолета был загружен саженцами смородины и ящиками с автомашины, на которой я ехал до аэропорта. Самолет взлетел и часа через два с половиной приземлился на грунтовом аэродроме со взлетной полосой, выложенной металлическими листами с отверстиями после штамповки.
Офицер проверил у всех документы, и нас проводили к автобусу. Автобус выехал с территории аэродрома, по дороге пересек поле и въехал в поселок сплошь из однотипных щитовых домиков. Как я узнал позже, он назывался «Финским». Автобус подъехал по аллее из старинных тополей к мосту через небольшую речку. За мостом висел лозунг: «Да здравствует XXXI годовщина Октября!» Некоторые буквы в слове «октября» были размыты дождем, читалось, как «онтабра», и смысл не сразу доходил до сознания.
Переехав через мост, автобус взобрался в гору и, повернув направо, остановился около мрачного здания с тремя входами.
Дальний вход был отгорожен деревянным забором с колючей проволокой. В заборе были ворота и проходная с охраной. Водитель автобуса направил меня к среднему входу, сказав:
— Иди на второй этаж, там находится администратор гостиницы, она тебя поселит.
Администратор дала мне направление в гостиницу № 2, которую сдали несколько дней назад, подробно рассказала, как туда добраться: «Нужно пройти под колокольней мимо пятиглавого собора до бань, затем по дороге вниз к поселку ИТР и по левой улице до двухэтажного здания. Это и будет ваша гостиница». Там меня хорошо приняли, поселили в четырехместном номере на первом этаже.
Городок в то время состоял из центральной части, в которую входило административное здание и гостиница. На месте нынешнего спортивного магазина стоял длинный барак, где проживали местные жители. Далее, через дорогу, идущую от моста, находились бухгалтерия и рядом с колокольней отдел КГБ и милиция. Напротив бухгалтерии, где сейчас городской музей, был клуб строителей, там иногда давали концерты заключенные. Интересно было смотреть на сцену, где по краям — вооруженная охрана, а в центре — выступающие зэки. Вскоре этот клуб был переделан в кинотеатр «Москва». Далее, за колокольней, находилась пятиглавка — собор, в котором размещался гараж. Впоследствии гараж был переделан в столовую, которую в народе называли «Веревочка», по-видимому, из-за того, что стена столовой была отделана лепниной с позолотой в виде каната. В пятидесятых годах собор был взорван, а на его месте был разбит сквер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: