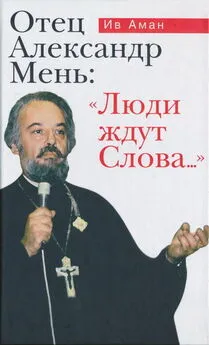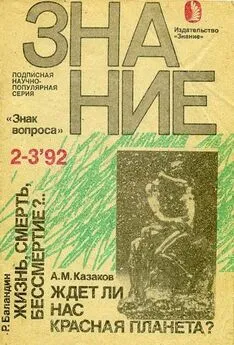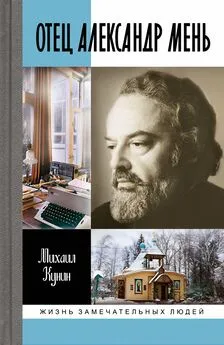Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
- Название:Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978–5-7380–0348–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие краткое содержание
Александр Мень — одна из самых ярких, самых значительных и трагических фигур XX столетия. Владимир Илюшенко, близко знавший о. Александра, создал живой портрет этого религиозного гения, посвятившего каждое мгновение своей жизни служению Богу и людям. В книге помещены также письма, другие не издававшиеся ранее тексты самого Александра Меня и около 50 его фотографий из архива автора.
Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мария Витальевна Тепнина, глубоко преданная ему и не пропускавшая ни одной его службы, пережила его ненадолго. Она была одним из тех людей, на которых держится Церковь. Человек несокрушимой веры и несокрушимой воли, она была праведником.
Он говорил не на репрессивном, ритуализованном и скособоченном советском новоязе, а на полнокровном и выразительном русском. Его язык — живой, насыщенный образами и блистательным юмором. Было бы полезно провести исследование поэтической речи отца. Сколько в ней изящества, вкуса, тонких художественных приемов! Само мышление его — чисто поэтическое. Мысль его была необычайно богатой, гибкой, многомерной. Любой поворот разговора рождал поток ассоциаций. Он молниеносно переключался с одной темы на другую. Мгновенно изменялось и выражение его глаз, фиксируя переход от иронии к грусти, от грусти к патетике, от патетики — к глубокому лиризму. Он был похож на сейсмограф, чутко улавливающий любые колебания почвы. Но над всем господствовала жизнеутверждающая, ликующая нота, рожденная верой во Христа.
Таинственная прозрачность его слов, его стиля. Эта простота — обманчива, за ней такая глубина, что дух захватывает.
Ему не нравилось, что у некоторых писателей и самодельных «духовидцев» Иуда начинает заслонять, а потом и замещать Христа. Не нравилось всё, на что налагал свою лапу дьявол. Никакого величия в нем отец Александр не видел. Лучшим его художественным воплощением он считал героя сологубовского «Мелкого беса», и это была воплощенная посредственность, серость.
Когда появилась гнусная статья Домбковского «Крест на совести» (1986 г.), обливающая грязью отца Александра, мой сын срывал ее с газетных стендов и приносил домой. (У меня до сих пор хранятся эти номера, пропитанные ядовитым желтым клеем.) Но тираж «Труда», где статья была опубликована, исчислялся миллионами. Этот Домбковский перешел в «Труд» из «Советской России» — партийного официоза. Ясно было, что автор выполнял социальный заказ, и ясно — чей. Домбковский обрисовал отца Александра как злобного антисоветчика, создающего «подпольную церковь» по указке Запада. Среди прочего он инкриминировал отцу создание «слайд–фильмов религиозно–пропагандистского характера», нелегально распространяемых им среди верующих. И не только это. «Я встретился с ним, — писал Домбковский, — держа в руках письмо группы верующих: «Неправедно живет батюшка!»»
Мы знали, как добываются подобные письма, и знали, куда они направлялись. Однако компромат, полученный журналистом — агентом «Органов», был хлипким, и он вынужден был это косвенно признать в своей статье: «… Меня голыми руками не возьмешь. Лукав отец Александр!.. Беседовали часа три, а расстались — будто и не говорили». Отца вызвали на «беседу» в Совет по делам религий, а там, наподобие рояля в кустах, оказался Домбковский.
Обычно такие публикации были прелюдией к аресту. Прочтя статью (она была в двух апрельских номерах «Труда»), я дал отцу телеграмму и поехал в Семхоз. Хотелось как‑то подбодрить его. Вопреки ожиданиям, он не был не только подавлен, но даже сколько‑нибудь расстроен. Он был, как всегда, бодр, деятелен и абсолютно спокоен. Настроение у него было хорошим (у меня — гораздо хуже). Тогда я еще раз убедился, насколько он полагается на волю Божию, насколько он свободен от суда земного. Он даже не хотел говорить об этой статье, отделался двумя словами и заговорил о другом.
Тем не менее после статьи началась серия допросов. Они были изнурительными, многочасовыми и очень частыми. Любой в этой ситуации пал бы духом. Но не отец! После допросов он иногда звонил, давая знать, что всё у него в порядке. Однажды прямо с Лубянки он пришел ко мне, однако не усталый, не измученный, а полный кипящей энергии, бодрый и даже довольный тем, как он провел «беседу». Он не уклонялся от разговоров с ними. И хотя много раз чекисты пытались уловить в его слове, ничего у них не получалось. Он пользовался случаем, чтобы даже этих людей наставить на путь добра, и они это чувствовали. Они читали его книги. По некоторым беглым деталям я понял, что он вызывал у них не просто уважение, но даже некий пиетет. Им как бы хотелось оправдаться перед ним.
Он, правда, рассказал мне, что во время одной из «бесед» он почувствовал: всё, он отсюда уже не выйдет. Они были напряжены, резки, и решение, по всей видимости, было принято. Он горячо взмолился про себя, и почти сразу всё переломилось: они стали вялыми, утратили интерес к «беседе» и выписали ему пропуск на выход. Он же оставался спокоен. Я уверен, что всякий раз он полагался на Высшую волю, и это делало его неуязвимым для страха.
Много званых, но мало избранных, призванных. Отец Александр был призванным. Он был не «инженером человеческих душ», но целителем человеческих душ. Его сердечная теплота, огромное сочувствие и интерес к людям творили чудеса. Я уже не говорю о его мистической одаренности, о многочисленных дарах благодати, полученных им, о чем он, по скромности своей, умалчивал.
У него были обширные замыслы: написать по–новому жития святых, дать новый комментарий к Четвероевангелию и т. д. Увы, этому не суждено было сбыться.
Сейчас уже трудно себе представить, насколько деформирована была наша духовная жизнь. Ее внешние проявления были запретными. Тайными были наши занятия по изучению Библии, тайными были наши контакты. Когда отец звонил мне, он не называл ни меня, ни себя, и если я не улавливал сразу, кто это, он говорил: «Вы меня узнаёте?», и я узнавал. Только в самые последние годы его жизни стиль телефонных разговоров стал иным:
— Владимир Ильич?
— Да.
— Это Александр.
Вскоре после публикации в «Труде» я позвал к себе отца, человек десять близких мне прихожан и устроил нечто вроде своего творческого вечера: сначала читал стихи, а потом написанную в том же году повесть «Попытка философии» (через 12 лет она была опубликована в журнале «Континент»). После того, как я кончил читать, посыпались вопросы. Отец предложил всем присутствующим высказаться и сам принял участие в обсуждении. Не буду приводить всего, что было им сказано. Отмечу кратко — по поводу стихов он сказал: «В них редкое качество — сплав иронии и лиризма». По поводу повести: «Чувствуется, что она на одном дыхании сделана». Когда кто‑то заговорил, что переход от негативного к позитивному в повести был абсолютно неожиданным, он заметил: «В этом вся прелесть!»
У меня там было одно словечко — полунормативное, что ли, но давно принятое в нашей прозе (в поэзии тоже). После чтения я спросил отца Александра (наедине): «Вас ничего не шокирует тут?» — «Ничего». Потом я снова спросил: «Вас ничего не шокирует?» — «Ничего. Всё нормально». Я успокоился. Он, со своей стороны, попросил меня заменить одно слово. Слово было ключевым. Он пояснил, что если сказать косвенно, а не прямо, воздействие будет более сильным. Он был, конечно, прав, и я немедленно заменил это слово местоимением. И действительно, вещь от этого только выиграла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: