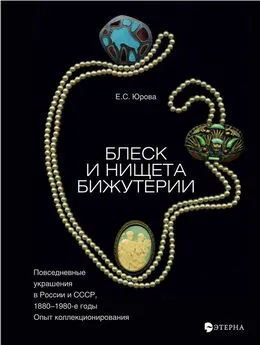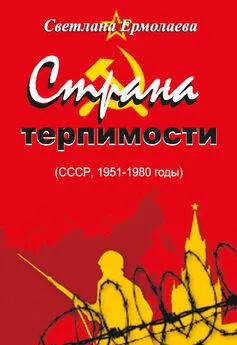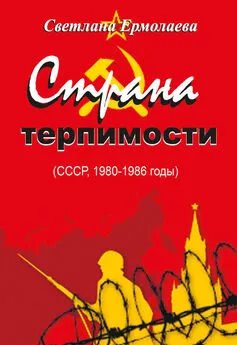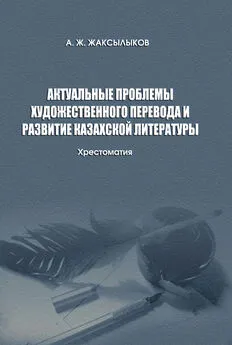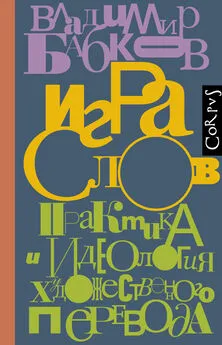Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Название:Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1065-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы краткое содержание
В книге рассматриваются события из истории раннего советского переводоведения. Обсуждается, как с 1920-х по 1950-1960-е годы в теоретических и критических работах, посвященных переводу, менялось отношение к иноязычному тексту и к задачам, которые ставились перед переводчиком. Разбираются переводческие концепции, допускавшие (и даже провозглашавшие) перевод, сохраняющий необычность и стилистическое своеобразие иноязычного произведения, а также концепции, признававшие лишь перевод, приспосабливающий иноязычное произведение к литературным вкусам и мировоззрению читателя. Показывается, как с помощью критических статей, вооружившись наработанными теоретическими построениями, переводчики вели между собой нешуточную борьбу.
В качестве развернутой иллюстрации к описываемому приводится история конфликта между И.А. Кашкиным, предложившим теорию реалистического перевода, и носителями иных переводческих взглядов – Е.Л. Данном и Г.А. Шенгели. Впервые публикуются архивные документы, относящиеся к полемике Кашкина, Ланна и Шенгели 1950-х годов.
Для переводоведов, историков литературной критики и всех интересующихся историей отечественного перевода.
Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что же мы видим? Во первых, что мой перевод точно и бережно воспроизводит все образы оригинала. Во вторых, что и у Байрона лев и гидра мирно уживаются «в самой сердцевине строфы», в 3-й и 5-й строках, точно так, как в моем переводе, и «ослабления» отсюда, очевидно, не проистекает: Байрон, смею думать, не хуже Кашкина понимал дело. Но в противовес моему переводу Кашкин полностью печатает соответствующий перевод Козлова, а именно:
Как вышедший из логовища лев,
Шла армия в безмолвии суровом.
Она ждала (до крепости успев
Добраться незаметно, под покровом
Глубокой тьмы), чтоб пушек грозный рев
Ей подал знак к атаке. Строем новым
Бесстрашно замещая павший строй,
Людская гидра вступит в смертный бой.
Что видим мы здесь? Что четыре с половиной строки, подчеркнутые мною, являются полной и чистой отсебятиной, не опирающейся ни на один штрих в подлиннике; что ошмотья байроновского текста переданы глупо (гидра сменяет «строем строй», – значит,
гидр было много?), что, наконец, слово «гидра» и у Козлова пишется «с маленькой буквы» (см. статью Кашкина, см. «Дон Жуана» в изд. Брокгауза и в авторском, СПБ, 1889). Спрашивается: почему же последняя деталь получает у Кашкина двойственное истолкование: у Шенгели это – порок, у Козлова – нет?
Отсюда следует, что порочная мазня сознательно противопоставляется Кашкиным добросовестному переводу для дезориентации читателя. Кашкин отваживается даже заявить, что у меня в переводе «даже когда похоже, это не так» (т. е., очевидно, не так, как хочется Кашкину и его друзьям подавать Байрона!).
Вот такой критический гермафродитизм и извращение истины присущи любому утверждению Кашкина и не могут быть терпимы в советской прессе. Доверчивость и близорукость редакции «Нового мира» поразительны!
В своем ответе я вынужден коснуться всех сторон кашкинской критики и окончательно разрушить легенду об «искажении» мною образа Суворова.
По необходимости мой ответ обширен. Там, где клевета довольствуется выкриком в полстроки, истине приходится развернуть пространную аргументацию.
Статья моя, обильно документированная, построена так:
Все мои переводы, включая и Байрона и его «Дон Жуана» имели высокую оценку; в отзывах подчеркивалась добросовестность работы, большая точность, богатство языка, уверенное владение формой.
В силу этого подозрительным является полное отрицание Кашкиным всех этих моментов в переводе «Дон Жуана», вплоть до утверждения «путаницы с падежами»…
Освещение этого вопроса и дано в первом разделе статьи.
Далее, сгруппировав по темам нарочито разбросанные утверждения Кашкина о «словесном мусоре», об «отсебятинах», о «вымученных каламбурах», о «непонятности», об «издевательстве над русскими именами», об «искажении образа Суворова» и пр., – я анализирую их, постоянно сопоставляя с подлинными текстами, приводимыми по английски и в дословном переводе, мой перевод, и ВСЮДУ ДОКАЗЫВАЮ ошибочность, невежественность и сознательную лживость кашкинских характеристик, – его установку на ПРЯМОЙ ОБМАН ЧИТАТЕЛЯ.
Касаясь вопроса о Суворове, я освещаю отдельные этапы травли, последним аккордом которой явилась кашкинская статья.
Далее идет общая характеристика положения переводческого дела. В нем создалась вредоносная групповщина и возобладали захватнические тенденции некоторых кучек, ставящих себе целью омертвление других переводческих сил.
Затем я освещаю темные истоки кампании против моего «Дон Жуана», кампании, льющей воду на мельницу англо-американских гонителей великого революционного поэта, – а также начинающиеся попытки дискредитировать мой перевод другого революционного поэта – Верхарна.
Практическим следствием моей статьи я вижу предписание редакции «Нового мира» дезавуировать своего «критика», а наряду с этим – создание авторитетной и беспристрастной комиссии (не из членов секции переводчиков, где хозяйничают боссы вроде Кашкина) для установления источников и целей травли меня и моего «Дон Жуана», а главное – для тщательного проветривания переводческой атмосферы.
Критика по американски
Случай, который разбирался президиумом ЦКК 23 мая, заставляет обратить особенное внимание на то, что наша печать иногда может быть еще использована в целях, не только ничего общего не имеющих с нашей партией, с делом социализма, но что печать, попавшая в руки людей, не сознающих величайшей ответственности за нее, может быть прямо вредной, принести огромный ущерб делу.
Ем. Ярославский. Об ответственности печати и безответственных выступлениях в печати. «Правда», 29 мая 1931 г.В декабрьской книжке «Нового мира» за 1952 г. небезызвестный в московских переводческих кругах Иван Кашкин, глава так называемой «могучей кучки» переводчиков, захватившей в последние годы большинство в бюро секции переводчиков зарубежных литератур ССП и «ключевые позиции» в издательствах, дал залп по моему переводу байроновского «Дон Жуана» (в дальнейшем – ДЖ).
Это уже третье его выступление в печати на эту тему, – наиболее развернутое и «доказательное».
Общий его вывод – тот, что мой перевод никуда не годится: он «порочен принципиально»; в нем «не переданы мысли»; «текст разбавлен множеством слов от себя»; «множество строф, где просто непонятно, о чем идет речь»; «теснота и косноязычье обессмысливают текст»; «число отсебятин можно увеличивать до бесконечности»; «искажен социальный смысл»; «искажен (в каких то злонамеренных целях. – Г. Ш.) образ Суворова »; переводчик «засоряет русский язык, с внутренними законами которого не считается» – и т. д.
Словом – абсолютный брак. Безобразный в художественном отношении и подозрительный в политическом.
Критика эта, заявляю прямо, —
недобросовестна,
рассчитана на обман читателя,
опирается на бесчестные приемы
и является одним из звеньев травли, ведущейся уже несколько лет в отношении меня (и – думаю – в отношении ДЖ, как наиболее революционной вещи Байрона, о чем ниже) группкой литпромышленников (а, может быть, и посложнее, о чем также ниже).
Эта характеристика кашкинской критики будет обоснована ее подробным, шаг за шагом, пункт за пунктом, разбором.
Пока же я отмечу некоторые ее практические следствия.
Читатель, поверив Кашкину (статья в крупном советском журнале!), очевидно, не станет читать мой перевод. Старый, очень вольный, хотя и талантливый, перевод Минаева практически недоступен. Перевод Козлова (дающий лишь 60 % байроновского текста, по словам акад. М.Н. Розанова, и являющийся «жалкими виршами», по определению К.И. Чуковского) был издан в XX веке в 05 году и переиздан ничтожным тиражом в 23 г., и его почти нельзя достать: в СССР свыше 300 тысяч библиотек, а козловский перевод существует суммарно, может быть, в 10–15 тыс. экз., из коих 3Л погибли за полвека. Кроме того, этот перевод вообще невозможно читать (иллюстрация: В.М. Инбер по выходе моего перевода звонила мне и сказала, что раньше, не будучи в силах прочесть перевод Козлова, должна была верить на слово, что ДЖ гениальное произведение, теперь же она это видит).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: