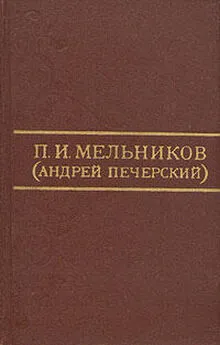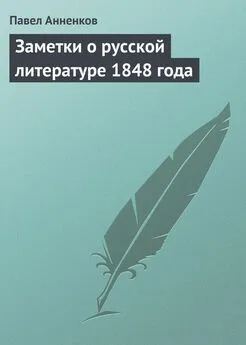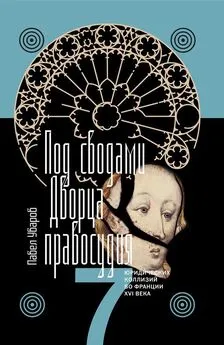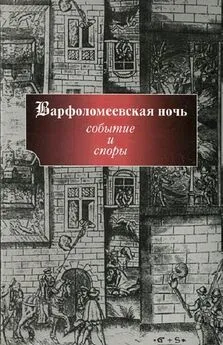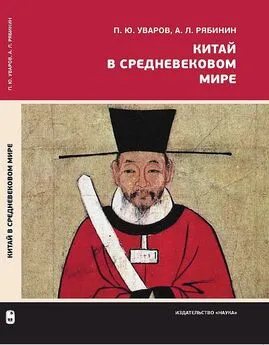Павел Уваров - Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках
- Название:Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0338-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Уваров - Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках краткое содержание
«Лис знает много, еж – одно, но важное» – это высказывание Архилоха сэр Исайя Берлин успешно применил для классификации писателей и философов. Такое противопоставление стало популярно и у историков науки, и у теоретиков менеджмента. На «трудяг» и «креативщиков» можно разделить, наверное, любое профессиональное сообщество; однако создается впечатление, что особо применимы подобные этикетки к историкам. Но насколько взаимосвязанными оказываются эти группы? Как они относятся друг к другу? Как реализуются их характеристики в профессиональной деятельности историков? Предлагаемая книга представляет собой рассуждения вокруг этой темы.
Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но как переживал академик С.Д. Сказкин, последний из «поколения учителей», руководивший в ту пору и сектором академического института, и кафедрой МГУ! С какой горечью вспоминает об этом эпизоде Е.В. Гутнова! И вроде бы она ничего особенного на том заседании не сказала. Как знаток историографии она напомнила, что о феодализме как об обществе, основанном в первую очередь на личных связях, а не на вещных отношениях, задолго до Гуревича говорил Жак Флакк. Гутнова, кстати, то же самое вполне могла заявить и ранее, во время выступления Данилова на историографической конференции, когда министр так настойчиво добивался от нее поддержки. Но ведь «при чужих» она этого говорить не стала. И все же Е.В. Гутнова – человек, отнюдь не склонный к чрезмерному покаянию, – говорит обо всей этой истории как о том немногом в своей жизни, за что ей впоследствии будет стыдно. Она чувствовала, что произошло нечто необратимое.
Неприятный осадок от этого обсуждения всячески пытались заглушить. Вопреки опасениям самого Арона Яковлевича, дипломная работа его ученика В. Закса вскоре с блеском была защищена на кафедре, и ему дали направление в аспирантуру. А затем многие книги Гуревича включали в списки рекомендованной для студентов литературы. И при каждом удобном случае подчеркивали заслуги Арона Яковлевича как непревзойденного скандинависта.
Но с тех пор как-то никому не приходило в голову, что Гуревича можно пригласить на кафедру с каким-нибудь выступлением, не говоря уже о спецкурсе. Это было стилистически невозможно для обеих сторон.
Что же касается самого Арона Яковлевича, то, читая его мемуары, трудно отделаться от впечатления, что его кафедральное обсуждение задело куда сильнее, чем все остальные неприятности, коих в жизни он встречал немало. Даже самую скромную попытку представить ситуацию в более сбалансированном виде он воспринимал в штыки и вновь и вновь бросался рассказывать об этом судилище. Неужели он ожидал какого-то иного исхода? Ведь о том, что коллег своих ему переубедить невозможно, он, по его же словам, понял уже давно.
Может быть, его задел больной для корпоративного сознания вопрос – о верности Учителю? Очень похоже. Но для себя Арон Яковлевич этот вопрос решил, посчитав, что истинная верность Неусыхину состоит не в подражании букве, а в верности духу, направленному на неутомимый поиск истины. И потому, участвуя в подготовке «Истории крестьянства», не мог допустить, что происхождение германского крестьянства будет изложено с позиций А.И. Неусыхина 130.
Главное же было в том, что, как Арон Яковлевич прекрасно понимал, речь шла не просто о размежевании с родной корпорацией. Это был последний раунд в борьбе за власть. Не за административную (хотя, может быть, и за нее тоже), но – за власть авторитета, принадлежащую тому, кто завоюет лидирующие позиции в науке. Корпорация медиевистов, может быть, и не осознавала этого с такой полнотой, но уступать власть Гуревичу не хотела, да и делиться ею не собиралась.
Однако ставки в этой борьбе были еще выше. Л.М. Баткин, составляя отчаянное письмо в поддержку А.Я. Гуревича, тогда иронизировал по поводу закрытого характера обсуждения, которое «было окружено обстановкой такой таинственности, словно речь на нем должна была идти не об эволюции древних скандинавов и франков, а о новом стратегическом оружии» 131. Ирония здесь неуместна. Речь шла именно об интересах государственной важности, ведь медиевистов продолжали считать «спецназом» историков, «солью» земли. Кто побеждал здесь, тот задавал тон в исторической науке в целом 132. И стремления властей оградить медиевистику от «идеологических диверсантов» свидетельствовали не о невежестве и обскурантизме, а об их проницательности.
По отношению к А.Я. Гуревичу власть 133продолжала играть по вполне внятным правилам. «Такими, как Гуревич, не разбрасываются». Его продолжали весьма ценить как специалиста в своей, скандинавской области, но блокировали его попытки выйти на иной уровень генерализации. «История крестьянства» была торпедирована, и работа над ней приостановилась на многие годы (хотя Гуревич был здесь не единственной и, может быть, не главной мишенью). Публикации в «Средних веках» на не скандинавские темы, как мы поняли, также не поощрялись. Вместе с тем, в «Науке» спокойно выходили его скандинавские монографии, главы в коллективных трудах.
Но почему ему позволили издавать то, что он издавал в издательстве «Искусство», начиная с «Категорий средневековой культуры», то есть – книги уже откровенно несоветские по самой своей форме, в которых сносок на классиков марксизма вообще не было? 134
В отличие от Гуревича, люди, получившие властные функции в науке, были неспособны в культуре увидеть ключ к социальной истории. Да и само слово «культура» усыпляло этих твердокаменных марксистов – любителей музыки и ценителей живописи. Где-то в середине 1980-х годов А.Н. Чистозвонов спросил меня о каком-то французском историке: «Скажите, а он что – серьезный специалист или так, историей культуры занимается?»
Вот и недоглядели.
У Арона Яковлевича впереди была своя жизнь. У сообщества советских медиевистов – своя. В общем, обе стороны прожили ее неплохо.
Гуревич не порывал окончательно ни с корпорацией медиевистов, ни с институтскими изданиями. В «Науке» будут выходить его книги; после прихода на пост директора З.В. Удальцовой он продолжит работу над «Историей крестьянства»; будет участвовать в некоторых институтских конференциях. Но параллельно он становится одним из лидеров той науки, которую Н.Е. Копосов и О.Ю. Бессмертная назовут «неофициальной историей» или «новой исторической наукой» 135. Ее атрибутами стали «неофициальные», подальше от глаз начальства организуемые конференции с участием С.С. Аверинцева, Ю.Л. Бессмертного, М.Л. Гаспарова, В.В. Иванова и, конечно, А.Я. Гуревича. Публики на эти заседания собиралось так много, что впору было вызывать конную милицию. Это была «наша», «настоящая» наука. У нее быстро сформировались свой язык, своя табель о рангах, свои ритуалы, цементирующие обманчивое единство сообщества 136. Это была действительно «другая наука», игравшая по другим правилам, у нее был иной стиль. Стиль, который сам себя любил описывать в терминах уехавшего к тому времени барда: «Эрика берет четыре копии…», а ретроспективно – словами в ту пору совсем юного рок-музыканта: «Поколение дворников и сторожей…»
Не стоит утрировать. «Неофициальная наука» умела весьма удачно использовать некоторые академические структуры. В ИНИОНе выходили реферативные журналы и сборники, дававшие возможность принципиально иного, чем ранее, уровня знакомства с трудами западных коллег 137. «Неофициальные» конференции проводились под эгидой академического Совета по истории мировой культуры, а затем материалы этих конференций издавались все в том же издательстве «Наука» большими тиражами. Но, конечно, успех «другой истории», успех А.Я. Гуревича был тоже – другой, внекорпоративный.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: