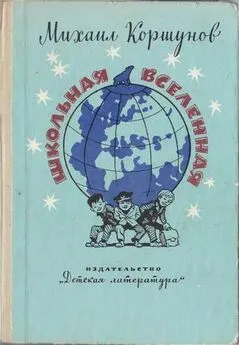Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
- Название:Солженицын и колесо истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0647-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории краткое содержание
Эта книга – о личности и творчестве недавно ушедшего из жизни писателя, публициста, общественного деятеля Александра Солженицына, человека трагической судьбы, через которую прошли война, восемь лет лагерей, изгнание и во звращение на Родину.
Блестящий критик и литературовед Владимир Лакшин (1933–1993) был непосредственным свидетелем баталий, развернувшихся вокруг первой публикации повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», основной удар в которых принял на себя главный редактор «Нового мира» поэт Александр Твардовский.
Знаменитые статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги», полемический ответ на книгу «Бодался теленок с дубом» – «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», а также интереснейшие дневники автора этой книги «доперестроечного» времени вызовут несомненный интерес у современников – читателей «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом», «Ракового корпуса» и «Двести лет вместе», пытающихся разобраться в катаклизмах нашей истории.
Здесь впервые публикуются письма В.Я. Лакшина к А.И. Солженицыну, многие страницы его дневников.
Солженицын и колесо истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все эти курьезы вспухли потому, что по возвращении на родину Солженицын, которого, кстати, его почитатели вскоре выдвинули на пост президента России, продолжил «Теленка» – публикацией нового сочинения «Угодило зернышко промеж двух жерновов» («Новый мир», 1998, № 9,11; 1999, № 2, 9 и далее).
Полемике с ним Лакшина он отдал там много места. Надо отдать должное Александру Исаевичу: по многим вопросам он признал правоту Владимира Яковлевича, подтвердил, что во многом судил неверно и был неправ.
«Не дворянское это дело» – манерно присваивает Лакшин былую присказку Твардовского обо всяком непорядочном поступке… – пишет Солженицын. – Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил еще пять лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже «Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины свободных журналов на русском языке, и кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, – а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» – а ведь тот был перепутан и размозжен цензурным гнетом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир» в своих жестких рамках, закованный. И сколько национально-народного все же прорывалось в «Новом мире» – этого в журналах Третьей эмиграции начисто не найдешь, в них – бесконечная даль от жизненных русских проблем, и это еще в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлеченный горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, – а это оказался поверхностный отток, не связанный с глубинной жизнью страны. Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведеньями своей среды, а не общенародными… С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция – и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило свое существование».
Несмотря на глубокое личное раздражение, Солженицын был вынужден признать, спустя свыше двадцати лет после выхода статьи Владимира Яковлевича и шести лет после его смерти: « Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям. Допускаю , что я весьма неполно вник в соотношение «первого» и «второго» этажей. Я рад, что он меня поправил . Да наверное об этом выскажутся потом еще другие свидетели. И конечно он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было еще сказать о Твардовском: при захваченности моей рукопашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ , упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» – разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. Снимаю и свое предположение , что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, – ему было видней. И в эти дни разгона – какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Что они могли сделать – не независимые издатели, а государственные служащие? Только дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редколлегии это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, – но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А.Т. «кулацким поэтом», – как же мог Твардовский оставаться? Ну да это я и тогда же признал . А еще – Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь : в «Теленке» я упрекнул А.Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он не дал ни малого намека, в какой я опасности, а мое провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото – ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают». (Курсив мой . – С.Л. «Новый мир», 1999, № 2.).
Таким образом, Солженицын признал правоту Вл. Як. практически во всем – «колесо истории» этой повернулось. Глубокое его личное раздражение, досада, часто злоба уже не могут быть приняты в расчет: и в «искажении цитат» и – в «казенном приспособленце, в фаворе у властей». Был ли больший «фавор у властей», чем у Солженицына после его возвращения?
Кстати сказать, подарив читателям подробное описание своего вермонтского поместья – с водопадами, пятью горными ручьями, двумя проточными прудами, лесом таким, что волки бегают и едва как-то не съели автора «Теленка», форели выскакивают, койоты бродят («кого я ласково люблю – это койотов… подходят к самому дому и издают свой несравнимый сложный зов: изобразить его не берусь – а очень люблю»), Солженицын играючи пишет о себе: «в 1975, достигнув необъятной воли и с необходимыми для того деньгами». Но он не стесняется заклеймить Лакшина, который «без промедления пошел на предложенный ему казенно-литературный пост, который кормит его (курсив мой . – С.Л. ) и дает положение» (там же). Это он о должности консультанта в журнале «Иностранная литература» без права писать о современной и даже русской литературе – рассудил.
Солженицын никак не может простить Лакшину (да и журналу «Новый мир») его признания: «Мы верили в социализм как в благородную идею справедливости» и журнал считали «ростком социалистической демократии» (там же).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: