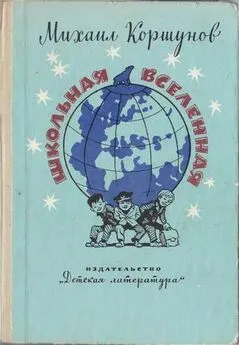Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории
- Название:Солженицын и колесо истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0647-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории краткое содержание
Эта книга – о личности и творчестве недавно ушедшего из жизни писателя, публициста, общественного деятеля Александра Солженицына, человека трагической судьбы, через которую прошли война, восемь лет лагерей, изгнание и во звращение на Родину.
Блестящий критик и литературовед Владимир Лакшин (1933–1993) был непосредственным свидетелем баталий, развернувшихся вокруг первой публикации повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», основной удар в которых принял на себя главный редактор «Нового мира» поэт Александр Твардовский.
Знаменитые статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги», полемический ответ на книгу «Бодался теленок с дубом» – «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», а также интереснейшие дневники автора этой книги «доперестроечного» времени вызовут несомненный интерес у современников – читателей «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом», «Ракового корпуса» и «Двести лет вместе», пытающихся разобраться в катаклизмах нашей истории.
Здесь впервые публикуются письма В.Я. Лакшина к А.И. Солженицыну, многие страницы его дневников.
Солженицын и колесо истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все это я к тому теперь пишу, чтобы показать, как дорог лично и по литературным путям оказался мне Солженицын. И что касается меня, то я всегда буду гордиться тем, что присутствовал при появлении на свет этого замечательного таланта, помогал Твардовскому отстоять и защитить его на первых порах, когда его голос только еще зазвучал незнакомо и резко в литературе.
За годы «Нового мира» я привык считать Солженицына близким себе человеком и не сомневался в добром его отношении. Но вот в 1970 году, всего через два месяца после разгрома журнала, произошла у нас ссора в письмах, приведшая к немому, необъявленному разрыву. Неожиданно для Твардовского и для меня он, по самому случайному поводу, подробно изложил на бумаге свои запоздалые обвинения уволенной редакции. Содержание этих писем Солженицына теперь весьма близко к тексту передано на с. 305–308 «Теленка». Он задним числом упрекал журнал в бесцветности его последних книжек, в том, что он в 60-е годы потерпел поражение «в соревновании» (?) с самиздатом; особенно резко укорял уволенных членов редколлегии в том, что они не оказали «мужественного сопротивления», когда их освобождали от должности и т. п.
В «Теленке» Солженицын пишет: «От отставленных членов я не скрыл, что осуждаю всю их линию в кризисе и крахе «Нового мира» (Какова словесность! И это о разгоне журнала! – В.Л. ). Так и было передано Твардовскому, но безо всех вот этих мотивировок». Солженицын ошибается. Он просил познакомить Твардовского с его письмами ко мне, и я тогда же передал ему их в копиях.
Твардовский негодовал и хотел отвечать Солженицыну с присущей ему прямотой и резкостью. Я отговорил его, сказал, что отвечу сам. Иначе была бы их ссора, а при невоздержанном характере обоих, она стала бы злорадным достоянием всех, кто ее жаждал (вот-де): только что журнал разогнали, а Твардовский уже бранится с Солженицыным).
Твардовский согласился. «Обгони-ка сперва моего меньшого брата», – процитировал он пушкинскую сказку о Балде.
В моих ответных письмах, о которых Солженицын в «Теленке» не упомянул, но которые были хорошо известны Твардовскому, я, между прочим, писал:
«Вполне сочувствую Вашему желанию «на переходе» к 70-м годам назвать все своими твердыми именами. Но Вы делаете ошибку, если думаете, что говорите всякий раз как бы от лица Истории. Не уверен, что она во всем со гласится с Вами. К сожалению, Вы сплошь и рядом питаете иллюзии самые детские, легко теряете масштаб явлений и поддаетесь, очевидно, впечатлениям и настроениям кружковой сектантской предвзятости. А сколько наивной импровизации в Ваших исторических прогнозах и оценках! (…) Сознаю, конечно, и Ваша пристрастность, и оценки эти в большой мере результат нездоровых обстоятельств, противоестественного положения, в которое Вы поставлены как писатель. Но, неизменно восхищаясь Вашим художественным талантом, я искренне сожалею, что Ваша общественная активность находит себе такой ложный выход» (8 мая 1970 г.).
Люди, близкие тогда Солженицыну, передали мне, что он не желал бы делать нашу переписку достоянием гласности – и она ушла под воду, чтобы всплыть лишь теперь страницами «Теленка».
Мы встретились с Солженицыным последний раз в декабре 1971 года, если и не как-то особенно сердечно, то по-человечески, на похоронах Твардовского и крепко пожали руки друг другу вблизи его гроба. Мне казалось, что Солженицын что-то понял тогда заново в Твардовском и «Новом мире», и его отклик на «девятый день» как будто это подтверждал. Потом (чтобы уж дорисовать картину наших взаимоотношений до «Теленка») он прислал мне собственноручно написанное приглашение на Нобелевское чествование у себя на квартире, и я его не отклонил. Чествование, как известно, не состоялось.
Когда Солженицына высылали из страны, я, понятно, отверг настойчивые домогательства взять у меня «отклик» или интервью, чтобы, как у нас водится, подсвистать ему вдогонку. И хотя я не был согласен со многими его речами и заявлениями после 1970 года, хотя мне, исключая нескольких блистательных глав, не понравился «Август 1914», озадачила и разочаровала статья о раскаянии в сборнике «Из-под глыб», я не считал для себя возможным печатно или в самиздате выступать против него.
«Когда мои друзья говорят глупости, я стараюсь смотреть на них в профиль», – сказал кто-то из знаменитых французов. Я долго пытался смотреть на Солженицына в профиль. Думал, что опамятуется, верил, что сказанное им как писателем в лучших его книгах, созданных на родине, куда важнее для всех нас, для нашей страны и добрых людей на всем свете, чем его напрасные интервью и импровизированные тирады на очередную горячую политическую тему. Меня удерживало и то соображение, что каковы бы ни были его нынешние экспромты и теории, нехорошо мешать делу оздоровления и очистительной критики, которая связана с именем автора «Ивана Денисовича». Но похоже, он сам помешал этому так сильно, что уже никто не в силах ему помочь. Так не лучше ль высказаться начистоту?
В последней книге он прямо оскорбил память человека мне близкого, кого я считал вторым своим отцом, обидел многих моих товарищей и друзей. Главное же, облил высокомерием свою собственную колыбель, запятнал дело журнала, бывшее в глазах миллионов людей в нашей стране и во всем мире достойным и чистым.
Брошен вызов, и я подымаю перчатку. Солженицыну, к счастью, ничего не грозит сейчас лично. Ореол всемирной славы дал ему долгожданную обеспеченность и безопасность. Твардовский в могиле. И я чувствую на себе долг ответить за него. Зная наши условия, Солженицын, возможно, надеялся, что мне и другим людям, не принадлежащим к числу казенных публицистов, придется промолчать и сглотнуть его мемуаристику молча. Напрасно.
Я не стану говорить здесь о том, чего не знаю достоверно – об обстоятельствах судьбы Солженицына за пределами «Нового мира», о его деятельности после 1970 года. Но кое-что я, один из персонажей его последней книги, знаю очень хорошо и твердо.
Воздержанию конец: надо рассчитываться и прощаться. Прощаться на этой земле навсегда и, во всяком случае, до той поры, когда уже в будущем веке, под иным небом и на иной тверди, кто-то справедливее и несомненнее рассудит нас.
Автор «Теленка» укоряет нас, русских, в чрезмерной осмотрительности, неповоротливости и лени. Это верно. Сам он вечно спешит, и ныне спешит без нужды. Торопится печатать в журналах не вошедшие прежде в текст отрывки и главы обнародованных ранее сочинений, на поверку почти всегда не лучшие, с избытком фельетонной хлесткости; заботливо подбирает и поспешно публикует автобиографические материалы.
Это мало похоже на обычаи писателей былого века, державших свои дневники, записки, письма, варианты сочинений вдали от глаз публики, а иной раз и за порогом земной жизни накладывавшими, из понятной скромности или деликатности перед живущими, запрет на их публикацию на 30, 50 или 100 лет. Еще недавно так поступил со своей перепиской Томас Манн. Хемингуэй наложил посмертное вето на большую часть своего архива.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: