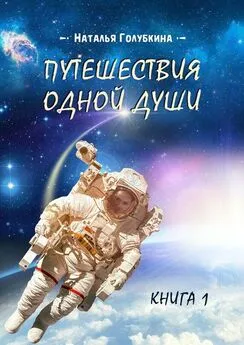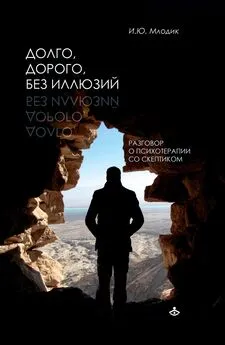Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
- Название:Разговоры в зеркале
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0433-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале краткое содержание
«Разговоры в зеркале» – это беседы, проведенные в течение почти двадцати лет главным редактором русскоязычного израильского журнала «Зеркало» Ириной Врубель-Голубкиной, а также записи дискуссий, проходивших во время редакционных «круглых столов». В итоге получилась книга о русском авангарде. Собеседники рассказывают о своем видении искусства, делятся мыслями о прошлом и настоящем культуры, о проблемах современности. Среди них знаменитый коллекционер, текстолог и знаток отечественной поэзии Н. Харджиев, литературовед Э. Герштейн, действующие лица авангардного проекта следующих поколений – от Ст. Красовицкого, Вс. Некрасова, М. Гробмана, И. Кабакова до Саши Соколова и П. Пепперштейна.
Разговоры в зеркале - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ирина Врубель-Голубкина: Нельзя забывать, что человек, попадая в чужое культурное пространство, начинает судить его по критериям своей принадлежности. У израильской культуры есть своя история, свои влияния, свои приоритеты. И, в отличие от русской литературы, метрополия которой в центре русского языка – в России, у литературы израильской центр литературы на иврите – это Израиль И она прошла свой путь, у нее есть свои взлеты и падения. Она создала и развила новый язык своего говорения, она начиналась под влиянием русской литературы, но быстро отошла от нее, впитала в себя все достижения западной модернистской и постмодернистской культуры. И это невероятный снобизм и невежество – пытаться учить, диктовать чужой культуре правила поведения и развития, не зная и не понимая. Тем более, что, как всегда, этим занимаются те, у кого личные достижения очень сомнительны. Но, как вы сказали, Яша, жизнь в одной среде, т. е. сама география, должна привести к обоюдным благотворным влияниям и взаимопроникновениям.
В 70-х годах каждый человек, приезжая сюда, нес на себе уникальность личного поступка (это описано у Милославского в «Укрепленных городах») – отъезд из империи зла, сионизм, антисоветскость, – яркий индивидуальный шаг, совершаемый в полной серости среднесоветского пространства. И был определенный пафос еврейской самоидентификации и просветительства, познавания Мандельштама и Солженицына, распространения культуры так, как они это понимали, – на этом держалась вся эта культура, вся эта литература еврейских неофитов. Вопрос в том, во что вылилось это культуртрегерство неофитов.
Появление литераторов алии 90-х, уезжавших из хаоса перестроечного возрождения с освобожденным знанием, с доступом к современной и прошлой культуре, с возможностью работы для появившегося нового читателя, создало возможность появления такого издания, как «Знак времени».
Я.Ш.: Здесь нет такой законченности периодов. Люди не приехали сюда, все переосмыслив. Я по себе знаю, что процесс переосмысления начинается здесь.
И.В. – Г.: Но процесс пошел, и главное – начала создаваться среда. То, что мы не могли сделать ни в 70-е, ни в 80-е, мы сделали в 90-х. Почти все авторы «Знака времени» приехали сюда в 90-х, хотя еженедельник был открыт для всех. Но это был другой уровень разговора, и «Знак времени» явился симптомом появления новой русской культуры в Израиле 90-х.
А.Г.: Я хотел бы сейчас вернуться к 90-м годам и поговорить от лица нашей группы, группы новоприбывших людей. Мне кажется, она разделялась на две категории: на тех, кто приехал сюда осознанно, и на тех, кто был отчасти вытолкнут. Для людей, живших в русских столицах – Москве и Ленинграде, отъезд был осознанным. Перед евреями, занимавшимися художественным или аналитическим творчеством, открывались большие перспективы, они сидели в престижных издательствах и институтах и могли заниматься тем, о чем мечтали. К другой категории принадлежал я, живший на национальной окраине. Мы оказались в исторической щели и были вытолкнуты к отъезду. Результат оказался тот же самый. История сионизма свидетельствует, что, какими бы путями ни попадал еврей в Израиль, когда он оказывается здесь, остальное пребывает несущественным. Я вспоминаю себя и понимаю, что выезд сопровождался глубоким противоречием между сознанием и подсознанием. Сознательной информации было достаточно, и я понимал, что ничего хорошего, во всяком случае в материальном смысле, меня в этой стране не ждет, что скорее всего я обречен на бедную жизнь и прочее, подсознательно все-таки ожидая, что жизнь на Западе принесет мне какие-то, даже материальные, дивиденды и изменения. Попав сюда, я убедился, что внятное, дневное сознание было совершенно справедливо: ничего меня здесь не ждало. В эмигрантской бедственной ситуации я понял, что нужно, следуя знаменитому совету, расслабиться и получить удовольствие, что эта ситуация полной свободы и материальной неприкрепленности сулит очень большие преимущества. Очень легко и естественно сбился круг людей, которые оказались в той же самой ситуации. Все, как бабочки, слетелись на свет возникшего тогда естественным путем «Знака времени», и в одной комнате оказались, кроме присутствующих, такие колоритные персонажи, как Бренер, Штейнер, Россман. И я помню совершенно непередаваемую, сейчас уже невоспроизводимую атмосферу экзальтации, когда ты входил в эту комнату, заряженную противоречивыми импульсами, исходившими от этих людей, которые находились друг с другом в достаточно трудных и сложных отношениях, но тем не менее были заряжены одинаковой волей к действию. Это были люди в достаточной степени свободные, почти не связанные никакими советскими ценностями, но ориентированные совсем в другую сторону. Я помню Бренера, сидящего в редакционной комнате, рассматривающего альбомы, допустим, Джилберта-Джорджа и Клементе и исступленно мечтающего. Помню Россмана, который чертил конфуцианские иероглифы у меня на стене в кухне; Штейнера, рассуждающего о культурно-исторических проблемах. Никто из них уже не пытался опровергать советского прошлого и как-то соотноситься с ним, хотя они и старались аналитически его осмысливать. Все смотрели в сторону будущего. Для каждого из них пребывание в Израиле было чрезвычайно существенно по двум обстоятельствам. Первое – это эмигрантская, лимоновская ситуация, которую нам удалось пережить всем вместе, второе – «Знак времени» был самым свободным в мире изданием, он не был связан ни с какими институциями. Если бы мы издавали эту газету в России, мы зависели бы от каких-либо издательских и корыстных ситуаций. Здесь мы практически не зависели ни от кого.
В газете нам удалось сформировать свободную речь свободного рассуждения о культуре, это не было профессиональным языком какой-то определенной группы, подобным тем языкам, которые возникли затем в России, это была совокупность языков разных персонажей, объединившихся вокруг «Знака времени», и тем не менее их связывала установка на свободное и независимое проговаривание вещей, относящихся к современной культуре.
Когда я просматриваю сейчас эту газету, то вижу, что большинство ее текстов не то чтобы устарели, но вошли в культурный обиход и в культурную привычку. Для 91 – го года они были важными и существенными, сейчас в содержательном смысле это не так, тем не менее от самой газеты исходит ощущение энергии и новизны, она продолжает существовать, потому что в ней что-то было сказано. Главным в ней является независимый язык свободного культурного высказывания, странная воздушная, беспочвенная совмещенность с Израилем и еврейством, которая была гораздо более важной, чем тогда мне казалось, а также – внеинституциональность этой речи. И дело даже не в отсутствии какой-либо цензуры, а в том, что мы не были прикреплены ни к какому культурному стереотипу, ни к местной публике, ни к русской метрополии, которая, собственно, никакого внимания на нас не обращала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: