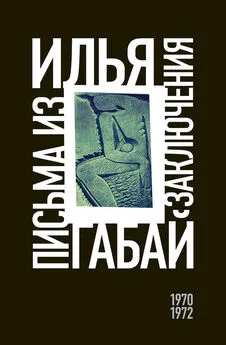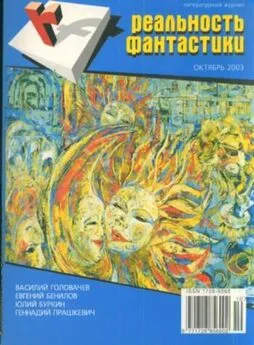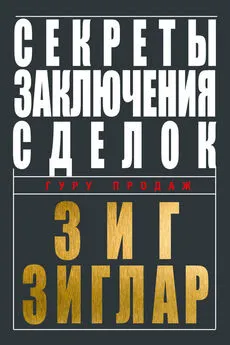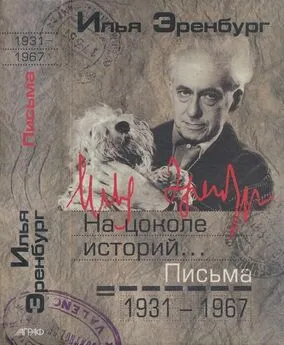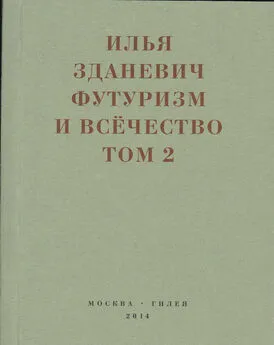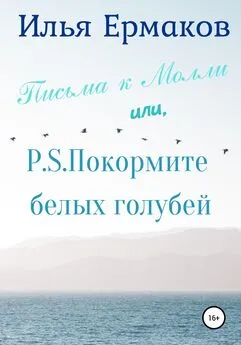Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972)
- Название:Письма из заключения (1970–1972)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0417-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Габай - Письма из заключения (1970–1972) краткое содержание
Илья Габай (1935–1973) – активный участник правозащитного движения 1960–1970-х годов, педагог, поэт. В январе 1970 года он был осужден на три года заключения и отправлен в Кемеровский лагерь общего режима. В книге представлены замечательные письма И. Габая жене, сыну, соученикам и друзьям по Педагогическому институту (МГПИ им. Ленина), знакомым. В лагере родилась и его последняя поэма «Выбранные места», где автор в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей жизни и творчества. Читатель не сможет не оценить нравственный, интеллектуальный уровень автора, глубину его суждений о жизни, о литературе, его блистательный юмор. В книгу включено также последнее слово И. Габая на суде, которое не только не устарело, но и в наши дни читается как злободневная публицистика.
В оформлении обложки использован барельеф работы В. Сидура.
Фотографии на вклейке из домашних архивов.
Письма из заключения (1970–1972) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
‹…› Однажды я в институте Международного рабочего движения слушал доклад Ю. Давыдова об элите, но мало что, кроме общего заинтересованного впечатления, помню сейчас. Тема тяжелая. Я в поэме несколько раз возвращаюсь к ней – и так и этак, и все выходит, по-моему, плосковато. В главе, специально теме этой посвященной, я ставлю вопрос: правомерно ли посягать на «свою – особенную – муку, свою – особенную ж – речь», сопрягается ли с понятием чести ситуация, когда «слезы по распятом древле нам затмевают казни днесь». Глава кончается не очень-то уверенно, но с претензией на сарказм: «Звучит по-эллински: элита. Ползет элита… Доползет?» Через много глав, в другой ситуации, а именно говоря о друзьях, я пишу иначе (но так же не очень-то глубоко и уж совсем без уверенности, что вопрос решен): «Пускай звучит по-эллински: элита. Пускай элита круг свой сбережет!» И еще пару раз возвращаюсь к этому и с тем же – сомнительным результатом. Твое рассуждение о Мандельштаме навело меня на мысль о непомерном расширении термина. Элита – все-таки что-то не горячее и не холодное и при этом достигшее привилегий. А мы – и в твоем примере – путаем трепетное отношение к своему внутреннему миру и интеллекту с этой бездумностью (на поверку – и бездуховностью: эрудиция в этом случае не спасает). Человек элиты вряд ли мог бы остро, по-гамлетовски чувствовать разлад с «веком-волкодавом», и, что уж точно, элитическое ощущение себя никогда не подвигло бы его на своеобразный вариант посягательства на «горло собственной песни». Я имею в виду слабую очень, по-моему, но для разговора характерную вещь о широкой груди и услугах полулюдей [119]. В нескольких строчках тему не исчерпаешь, куда там! Вот ты пишешь: «Это люди, которые культивируют и передают от поколения к поколению непреходящие ценности, что бы ни творилось вокруг». В твоем «что бы ни творилось» достаточная этическая двусмысленность, но дело не только в этом. Кто же это? Русские дворяне, например? Но одни передавали тонкую духовность и Вольтера в подлиннике вкупе с правом на рабовладение, другие последние права только. Для истории культуры мысли, даже для политической истории разница значительная, для этики – никакой, случаи равнозначные. Ранимый человек элиты – Блок, как известно, это очень остро чувствовал. В исторической перспективе люди восхищаются дворцами и мало волнуют их имевшие место хижины. Но современника-то, если это не гениальный чудак (случай не слишком частый, между прочим), хижина не может не волновать: в хижинах живут люди. Высокая культура, купленная ценой не только великих социальных бедствий, но и серьезной степенью толстокожести, есть, и никуда не денешься, и она правомерно украшает жизнь. Но великого созидателя это этически (только) не приподнимает. Вряд ли стоит говорить об этом в стране, где бывший паж считает себя обязанным писать «Путешествие», человек высокого ранга – «К временщику» и даже кончить петлей, почти придворный поэт – «Деревню», а гениальный граф – ну, о нем все и так известно, о комплексе толстовства.
Я знаю, ты скажешь о «массовой культуре». Это бедствие, конечно. Хотя почему ж не надеяться, что «массовость» не расширится: вот в кино, например. Феллини, может, и не войдет, а Крамер – вполне может. В далекой перспективе, конечно. Но главное, это действительно стихийно: не держать же людей в состоянии поголовной неграмотности! Может, и есть небыстрый по результатам способ: неуклонное и смелое культуртрегерство, но здесь опять начинается замкнутый круг: это требует самоотдачи, много сил и времени – сколько же погибнет шедевров, то есть так и не состоится. Видимо, постепенно «массовая культура» занимает место социальных бедствий «среды» со всеми ее атрибутами, последствиями и проблемами (в Европе уже почти заняла): бездуховность и бессмыслица, низкие нравы, преступность и пр. – все, что сейчас пишут о «массовой культуре», писали когда-то о среде (социальной), которая «заела»… Вот почему проблемы эти можно будет только выявлять, искать их нюансы, но сделать ни черта нельзя будет, пока сама жизнь не исчерпает эту «массовость» и не воздвигнет на ее место ситуацию [нрзб].
Как видишь, я завелся: задет за живое. Умолкаю и обнимаю тебя в ожидании писем.
Илья.
Галине Гладковой
20.3.71
Милая Галка!
Вот видишь, традиция в этот раз слегка и припоздала, но может, оно и к лучшему: есть у меня повод написать лишнее письмецо. Спасибо на добром слове о моем отрывке – мне оно ведь очень нужно, тем более – от тебя и еще не очень многих людей – моих (надеюсь) пожизненных читателей. Только отрывок есть отрывок. Такой «глуховатости» тона я во всей большой довольно вещи не выдержал, да и не стремился к этому, как и не пытался вообще выбирать какой-то тон. Нерв в поэме есть, и чувствительность, кажется (о чем я, по-моему, должен и сожалеть, но о том – ниже). Я, конечно, иронизировал вовсю над собой, но, боюсь, местами прорвалась плаксивая интонация. Можно и почистить, но не знаю, лучше ли это будет или хуже; во всяком случае, это может оказаться не очень-то честным отражением нынешнего настроения. Олимпийский тон, как ты помнишь, мне и вообще был несвойственен, а сейчас – тем меньше оснований. «Жить помедленнее, попристальнее» и верно надо бы, но мы ведь ж и в е м, и никуда нам не деться от мелочей и, словом, «проблем». Мне порой по твоим письмам кажется, что у тебя кое в чем – «как в датском королевстве»: неладно, – но строить догадки из такой дали я не могу и не хочу. Но люди, любящие тебя и которых ты любишь, – все-таки близко, это, как точно выяснено, счастье, и может служить серьезным противовесом в любых временных неладах. Я прямо-таки готов сбиться на памятные по Марка и Гали свадьбе щипачевские строки и впрямь – «дорожить умейте», и впрямь – «с годами – вдвойне». Твой рассказ о вечере у Гали Эд<���ельман> и ее отклик на эту встречу – такое же еще доказательство неизбывности этих банальных, беспомощных, – но правильностей.
В «Литературке» я прочел новые стихи Вознесенского. Они менее «монстроваты», в отличие от всего, что он писал в последние годы, но тем яснее стандартность его мироощущения, взвинченность его поэтического бытия. Поэзия на допингах – несчастнее [нрзб] и нечестнее этого, по-моему, не бывает.
Я желаю тебе, старинная подруга, побольше светлых часов, дней, лет. Надеюсь, помимо всего прочего, на неизбежность твоей стези – поэтической ‹…›
Твой Илья.
Юлию Киму
22.3.71
Дорогой Юлик!
Если ты под письмом со стихами имеешь в виду – с песнями, то я его в свое время получил и, как обычно, своевременно откликнулся. Видимо, затерялось оно где-то в пути, что всегда и очень жаль. По-моему, письмо должно быть датировано 4 марта, в него я вложил записку к Сарре Лазаревне и дал характеристику (положительную, разумеется) Вите Тимачеву.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: