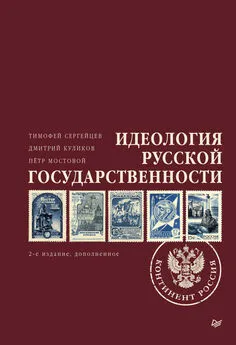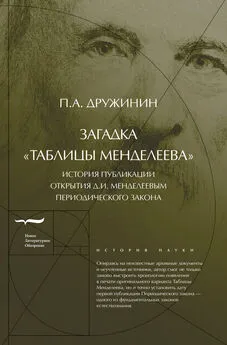Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Название:Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование краткое содержание
Ленинград, декабрь 1980 года. Накануне Дня чекиста известному ученому, заведующему кафедрой иностранных языков, и его жене подбрасывают наркотики. Усилия коллег и друзей – от академиков Михаила Алексеева и Дмитрия Лихачева в Ленинграде до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова в США – не в силах повлиять на трагический ход событий; все решено заранее. Мирная жизнь и плодотворная работа филолога-германиста обрываются, уступая место рукотворному аду: фиктивное следствие, камера в Крестах, фальсификация материалов уголовного дела, обвинительный приговор, 10 тысяч километров этапа на Колыму, жизнь в сусуманской колонии, попытка самоубийства, тюремная больница, освобождение, долгие годы упорной борьбы за реабилитацию…
Новая книга московского историка Петра Дружинина, продолжающего свое масштабное исследование о взаимоотношениях советской идеологии и гуманитарной науки, построена на множестве архивных документов, материалах КГБ СССР, свидетельствах современников. Автору удалось воссоздать беспощадную и одновременно захватывающую картину общественной жизни на закате советской эпохи и показать – через драматическую судьбу главного героя – работу советской правоохранительной системы, основанной на беззаконии и произволе.
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом нужно отметить, что ситуация в стране оставалась той же, какой была и до ареста Азадовских: ничего не изменилось. Конечно, теперь у кормила страны стоял не Брежнев, а Андропов, но никаких перспектив либерализации в любом случае не угадывалось. И хотя еще в 1970 году был напечатан знаменитый трактат Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», в 1983 году это вопросительное заглавие воспринималось скорее как утвердительное. И если в 1970 году еще можно было заняться подобным футурологическим размышлением, то практика подавления либеральных настроений в 1970-е годы сняла вопросительный знак. Да, просуществует! И много дольше, чем до 1984 года. Так тогда казалось.
Вернулись Азадовские в ленинградскую провинциальную трясину. Провинциальную не изначально, но вынужденно. Начиная с 1918 года, когда советское правительство переехало в Москву, подальше от границы, началось втаптывание Петрограда – Ленинграда в болото провинциальной жизни. Одно то, что бывшая столица империи в советские годы была низведена до уровня рядового областного центра с соответствующим скудным финансированием, весьма показательно.
Инакомыслия здесь не было с довоенного времени; и если в городе на Неве и возникало нечто относительно свободное, то выкорчевывалось без всякой пощады. Но поскольку именно сам этот город, как бы он ни назывался, с его каменным застывшим сердцем и есть неиссякаемый источник свободы, то никакая карательная сила не имеет над ним абсолютной власти. И те люди, в которых город на Неве вдохнул свою душевную силу, жили своей отдельной жизнью – свободно в несвободной стране. Их было не много, но они были подобны соли. Поколение Бродского в этом смысле особенно показательно.
Жесткость и еще неотступность – вот те слова, которые приходят на ум, когда погружаешься в безбрежное море судебных бумаг Азадовского. И за каждой бумагой, будь то заявление в суд или прокуратуру, отказ в возбуждении дела, кассационная жалоба, решение суда, стоят украденные часы, дни, месяцы, которые вместе соединяются в украденные годы.
Именно таковой была цена, которую должен был заплатить человек, поставивший перед собой цель: возвращение своего честного имени. Вопрос был в том, принесут ли эти усилия какой-либо действительный результат.
Впрочем, почти все друзья Азадовских, понимая тщетность этой борьбы, его отговаривали. Нет, не смириться, конечно, но успокоиться, попытаться забыть, оставить все пережитое позади, чтобы посвятить свою новую, можно сказать, заново подаренную свободную жизнь чему-то более светлому и полезному, чем борьба с драконом.
А дракон не спал: так называемая ленинградская волна арестов интеллигенции, первым в которой был Азадовский, вторым – Л.С. Клейн (5 марта 1981 года), затем – А.Б. Рогинский (12 августа 1981 года), продолжалась: в июне 1983 года в Москве был арестован ленинградец М.Б. Мейлах, филолог-романист, ученик В.М. Жирмунского. Ему было предъявлено обвинение по 70-й статье УК (то есть арест его был санкционирован следственным управлением КГБ СССР в Москве). 14 июля в парижской «Русской мысли» была напечатана заметка Юрия Кублановского по этому поводу. Начиналась она следующим:
Прошло около двух недель со дня ареста ленинградского ученого Михаила Мейлаха, а до сих пор неизвестна статья, по которой он арестован. Обвинения могут быть самые разные – в зависимости от причудливости фантазии КГБ. Филолог К. Азадовский был, к примеру, осужден за «наркотики», историк А. Рогинский – за «подделку отношений в архив»… Но как бы ни изощрился на этот раз КГБ, всем ясно: и Азадовский, и Рогинский, а теперь и Мейлах – арестованы за одно: независимую научную и культурологическую деятельность без постоянной оглядки на официальную оказененную науку.
Одним словом, никаких поблажек Азадовские не ждали и никаких иллюзий насчет своего будущего в стране победившего социализма не испытывали. Они начинали жизнь заново – как освободившиеся уголовники, обладатели волчьих билетов. Светлана сразу же (Константин еще был на зоне) взяла в руки главное орудие русской женщины – метлу (летом) и лопату (зимой), не без труда устроившись дворничихой в трест жилищного хозяйства и получив временную прописку. Константин после возвращения пытался жить частными уроками, продажей картин и книг домашней библиотеки и редкими гонорарами за публикацию на Западе переписки Рильке – Цветаевой – Пастернака.
Реальной опасностью для него могло оказаться в этот момент обвинение по 209-й статье УК, то есть в «паразитическом образе жизни», иными словами, в тунеядстве, потому как в Стране Советов нужно было, как известно, иметь официальное место работы; четыре месяца без стажа уже создавали состав преступления. В филологической и писательской среде это обычно преодолевалось получением места литературного секретаря у члена Союза писателей СССР, либо секретарством у кого-либо из академиков: по своему статусу они имели право содержать на свои средства помощников. Заключался договор в свободной форме и предъявлялся в контролирующие органы.
Но кто его формально оформит секретарем? Те писатели, к которым можно было обратиться напрямую или через знакомых, отшатывались от него как от зачумленного, боялись. Откликнулся, правда, Федор Абрамов и просил передать, что ждет звонка: дескать, он может оформить Азадовского и сам, а может подыскать подходящий вариант среди членов Ленинградской писательской организации. Азадовский в тот момент находился в Москве; сразу по возвращении он должен был связаться с Федором Александровичем, который почти оправился после перенесенной в сентябре 1982 года операции. Но когда Азадовский вернулся, то к Абрамову было уже не пробиться: врачи взяли его в кольцо и готовили ко второй операции, на которую писатель долго не мог решиться. Их встреча произошла только 18 мая 1983 года в Доме писателя на улице Воинова – в этот день город прощался с прославленным писателем.
Согласилась его оформить только детская писательница Жанна Александровна Браун (по мужу Грудинина; 1931–1996), и Азадовский с 21 марта 1983 года формально стал ее литературным секретарем.
Восстановление Азадовского в качестве ученого протекало трудно, но Константин Маркович был готов тогда писать и в стол – ему важно было просто «вернуться в форму», доказать самому себе, что он способен возвратить то, что было упущено в заключении. По счастью, для науки о литературе тогда были не самые «быстрые» годы, и материалов по локальным областям, которыми занимался Азадовский, появилось за время его отсутствия не слишком много. В начале 1980-х годов гуманитарная научная мысль, сдерживаемая цензурой, болезненно и тяжело обретала печатную форму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
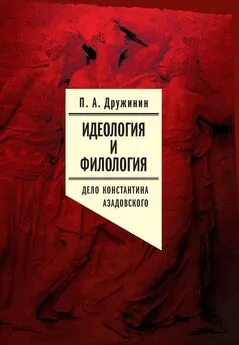


![Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)