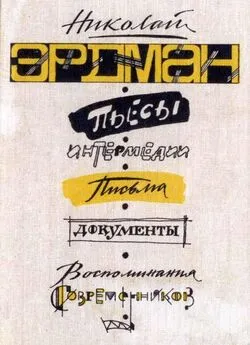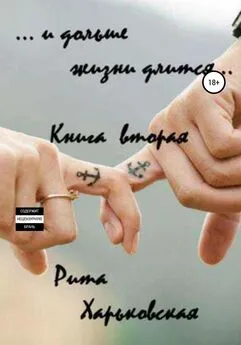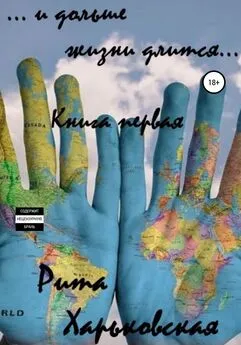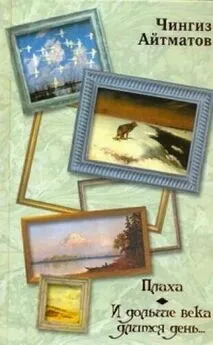Николай Сотников - «И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы
- Название:«И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906860-44-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Сотников - «И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы краткое содержание
Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н. А. Морозове, драматическом артисте Илларионе Певцове, о выдающемся деятеле Русской православной церкви патриархе Алексии Первом, о главе буддийской церкви в СССР с 1956 по 1969 годы Еши-Доржи Шарапове, о многих других людях, встреченных на перекрёстках XX века. Впервые воедино собрана публицистика и критика Н.А. Сотникова, все его основные драматургические произведения.
Сборник разнообразно и оригинально оформлен. Все тексты публикуются в авторских редакциях.
«И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И наконец, последний аккорд перед главной сценой очерка моей детской памяти.
Отец мечтал, чтобы я стал железнодорожным инженером, но для этого необходимо получить среднее образование. Значит – реальное училище. В Полтаве оно славилось и своими педагогами.
Первые месяцы учёбы я был как во сне. Всё было новое, всё удивляло, тревожило, вдохновляло. Потом романтический туман рассеялся, и я стал пристальнее вглядываться в лица учеников и учителей. Из семьи рабочих был только я \ Было ещё несколько мальчишек из семей богатых крестьян, по сути уже не крестьян в собственном смысле слова, а скорее – перекупщиков. Далее шли группы ремесленников, мелких торговцев, мелких служащих. Были среди нас и дворяне. Как я потом понял – по причине их органической неспособности к изучению древних языков и вообще желанию получить знания более практичные. Романтические грёзы в стенах реального училища не витали. На то оно и было реальным.
Реальным было имущественное, и сословное расслоение. Я в этой среде себе не нашёл ни друзей, ни даже товарищей. У меня дома никто из одноклассников не был, ни к кому не ходил и я. У педагогов и директора мы были по обязанности: обычай колядования сохранился и позволил нам заглянуть в святая святых – в учительские квартиры, в директорский особняк. На праздничных столах возвышались традиционные праздничные гуси с антоновскими яблоками, в квартирах было довольно просторно, чисто и уютно, паркетные полы сияли, в печках трещали хорошие сухие дрова. Нас приветливо, но сухо благодарили, одаривали простенькими лакомствами и отпускали восвояси, и мы возвращались в свои дома. У нас тоже было чисто, по-своему уютно, но пол был дощатый, в печи топилось что придётся, гуся на столе не было. На его месте стояла простая, но вкусная материнская снедь. Обычный пролетарский быт, почти полностью лишённый и какой бы то ни было национальной специфической окраски. Так по всей России на окраинах городов уездных и губернских жили квалифицированные рабочие. Другое дело – Диканька! Там отец редко говорил по-русски и в своей белой рубахе с пояском очень походил на запорожского казака со знаменитой картины Репина.
Праздником были беседы в родном кругу, покой, тишина и чтение. Об уроках говорилось мало. Подгонять, заставлять их учить меня не надо было, и учился я хорошо. Четвёрки попадались, но преобладали пятёрки. Сейчас оглядываясь на те годы, я думаю, что от чрезмерной загрузки была и какая-то польза, ибо не находилось места безделью. Работали кружки – духовных инструментов, народных инструментов, в реальном училище действовал свой театр, в котором я с удовольствием переиграл многие роли. Например, в гоголевском «Ревизоре» я Добчинского играл. Говорили – довольно смешно! Но это – уже в старших классах. В целом же надзор был строгим, пристальным, в центре Полтавы всегда можно было попасться на глаза инспекторам. А на нашей рабочей окраине – другое дело. В депо инспекторы не заглядывали, по нашим лачугам не ходили. А вот в состоятельные дома заглядывали, не отказывались и от хлебосольства. Удивительное это было время, и в удивительном месте я рос! Патриархальное соседствовало с новым, а то и новейшим. Город был недалеко от села. Крепостное время у многих было на памяти. А тут того гляди грянет юбилей Полтавской битвы. О том, что это двухсотлетие будет широко отмечаться, говорилось повсюду. В училище даже для младших классов были проведены дополнительные уроки. О гибельных делах в русско-японской войне не вспоминалось. Зато седая древность превозносилась на все лады. Ближе к лету заговорили о том, что приедет царь, вместе с ним будут двор и дипломатический корпус. Торжественный въезд мне посмотреть не довелось, но от старших я слышал, что такому большому числу почётных гостей высшего ранга достойного помещения в губернском городе найти не смогли. И тогда всех в гости к себе пригласил Кочубей. Всех, в том числе и царя с семьей и ближайшими слугами.
Сказать, что в связи с торжествами в городе резко увеличилось число жандармов, я не могу. Возможно, существовали какие-то переодетые агенты, что-то делалось незаметно, но губернаторский дом как один жандарм охранял, так и продолжал охранять, а у входа в усадьбу Кочубея появилось два часовых. Вот и все внешние перемены. Правда, заметную роль во владениях Кочубея стали играть привезенные из Петербурга царские слуги. Одному из них я обязан знакомством с великими княжнами, царскими дочерьми. Вероятно, это был чиновник министерства двора высокого ранга. Одного его взгляда было достаточно для того, чтобы десятки слуг рангом помельче приходили в движение.
В тот день, встретив меня утром у входа в усадьбу, дед Григорий важно и довольно глядел на меня (я приехал на первые в жизни каникулы в форме реалиста, хотя и жарковато было) и торжественно произнес: «Приходи ко мне часам к пяти, внучек, я тебя по-царски накормлю. У князя весь двор в гостях и царь со своим семейством. Вот я и стараюсь. Мне князь сказал: “Григорий! Ты повар отменный! Даю тебе полный простор, но кушанья сам все попробую!” Я на кухне со своими хлопцами теперь днюю и ночую…».
В пять часов подошёл я к воротам. Поклонился, поздоровался, сказал, что иду к повару его сиятельства. Часовые переглянулись, а тут как раз к воротам главный слуга (или как там его по рангу?) шествует. Увидев меня, отозвал одного из часовых, что-то ему сказал, а сам ко мне с расспросами, что я из себя представляю, где учусь, сколько мне лет. И вдруг спрашивает, умею ли я на велосипеде кататься. «Умею», – отвечаю. Вижу улыбку благосклонную: «Будешь сопровождать великих княгинь в велосипедной прогулке. Сейчас я тебя им предоставлю и велю подать велосипед по росту». Научился я кататься на велосипеде, конечно же, в цирке в прошлом году. Да ещё на каком – высоком трёхколёсном, для трюков. Так что простой велосипед для меня был простой забавой.
Возвращается часовой, что-то главному слуге докладывает. Тот, видимо, удовлетворён остался, кивнул головой и небрежно ему рукой повелел на пост вернуться. Часовой отдал честь и вновь встал у ворот. Смотрю, какой-то царский слуга ведёт маленький, весь горящий на солнце велосипед, подводит ко мне и предлагает испытать машину. Я сажусь, делаю несколько маленьких кругов, ловко соскакиваю, как меня в цирке учили, и кланяюсь почтеннейшей публике.
Вижу, что придворные слуги удовлетворены моим испытанием и, вероятно, какой-то информацией обо мне. Меня жестом зовут за собой, и мы входим в парк.
Боже мой, какое это было диво! До сих пор этот парк-сад у меня перед глазами в лучах вечернего солнца. Розовые кусты, диковинные растения, тень сочетается со светом, цвет с цветом, у каждой дорожки свой рельеф, свои пути, повороты, а на газонах пасутся пятнистые олени, гуляют павлины, какие-то диковинные птицы щебечут на деревьях… И весь этот рай в двух шагах от села, не самого бедного на Украине, не самого богатого, но уж, наверняка, самого знаменитого села, в котором откровенной нищеты нет, но бедность приукрашена солнцем щедрым, природой, гоголевскими красками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
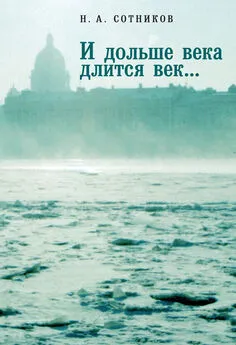
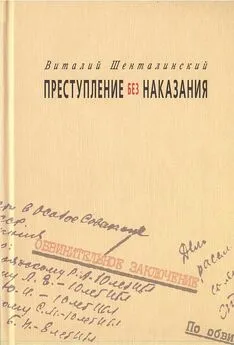

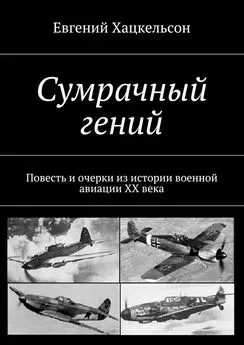
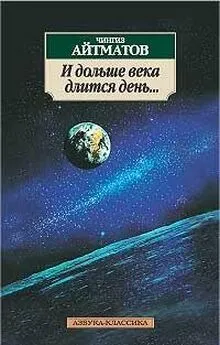
![Алексей Котенев - На Забайкальском фронте [Документальные повести, очерки]](/books/1063726/aleksej-kotenev-na-zabajkalskom-fronte-dokumenta.webp)