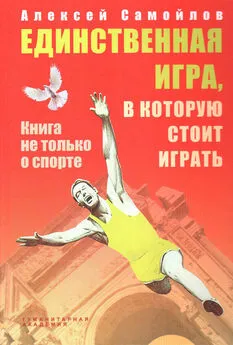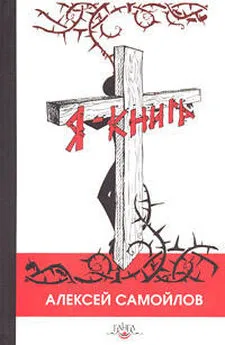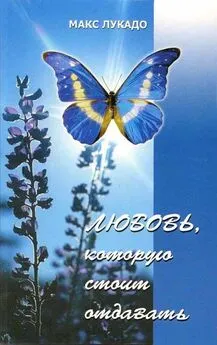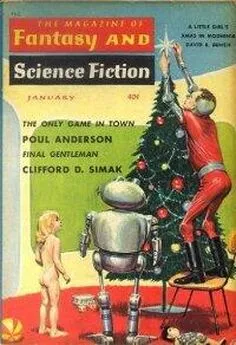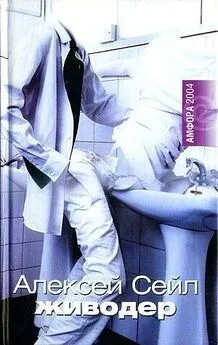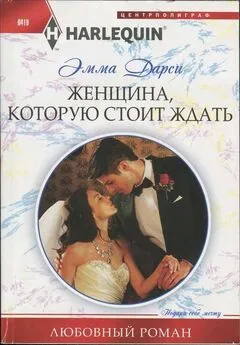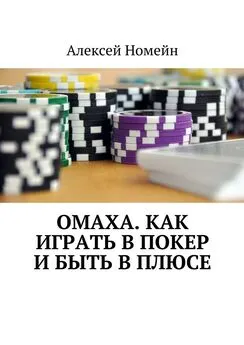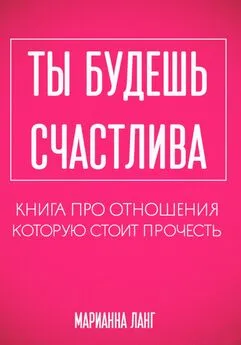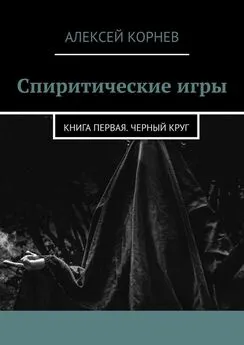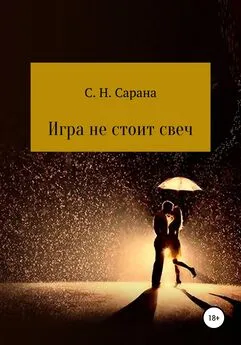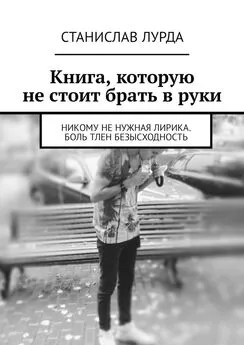Алексей Самойлов - Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник)
- Название:Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гуманитарная Академия
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93762-113-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Самойлов - Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник) краткое содержание
Издание снабжено уникальными фотографиями из семейного архива автора.
Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да мы же “языков” добывали… Да я все умею вот этими руками, понимаете? Зачем же меня с моих героев списывать?..»
Эту книгу написала наша общая с артистом знакомая, написала талантливо, и далеко не все доводы артиста показались мне убедительными, хотя, конечно, судить о том, каким он был на войне, ему сподручнее, чем критику – в этом у меня сомнений нет… Что до остального, жалею, что книга не увидела свет полностью. В одном из напечатанных из нее отрывков о Смоктуновском – Куликове из роммовской картины «9 дней одного года» – сказано: «Всё сплошная игра. И всё правда».
Невероятно сложная материя – душа артиста, душа, рождающая другую душу. Воистину: все сплошная игра, и все правда. Если, конечно, артист подлинный. Если не щадит себя и живет на сцене «на разрыв аорты».
Как-то в присутствии Смоктуновского гроссмейстер экстра-класса, человек среднего возраста, игравший претендентский матч с молодым соперником, пожаловался, что на пятом часу партии доска покрывается туманом и он не может заставить свой мозг работать с прежней точностью. «Странно, – качал головой гроссмейстер, – неужели преждевременная старость? Полная опустошенность, странно…» Когда гроссмейстер ушел, Смоктуновский признался:
– И у меня теперь появляется такое чувство – всё, пустой… Это естественно. Если ты уважал зрителя, любил искусство – ты все отдавал. А «актер актерычи», они, – тут Иннокентий Михайлович промурлыкал густым «фиоритурным» голосом, пародируя «актер актерычей», – долго живут, размеренно. Все-таки жить жизнью другого человека, даже на время, – страшно тяжело. Черпаешь все из одного источника (он прижал ладонь к груди. – А. С. ) и понимаешь вдруг, что все исчерпал.
…В моей жизни были театральные подмостки. В школьной самодеятельности играл Землянику в «Ревизоре», Сатина в «На дне». Три сезона выходил на сцену Петрозаводского русского театра драмы в спектакле «Губернатор провинции» в роли немецкого мальчика Вальтера. Это была пьеса братьев Тур и Шейнина на современную тему, действие происходило в только что поверженной Германии, в первые месяцы после войны, нас, участников и зрителей спектакля, отделяло от этих событий каких-нибудь два-три года. На меня ходили смотреть весь наш класс и все ребята со двора, чувствовать себя премьером было сладостно, и все же я едва не бросил театр после четвертого, кажется, спектакля. Мой герой и сверстник был сыном ярого нациста, учился в гитлеровской школе, и, когда советский полковник просил Вальтера почитать какие-нибудь стихи, которые они учили в школе, он читал (надо признаться, читал он, то есть я, со всей мыслимой остервенелостью):
Мы идем, отбивая шаг.
Пыль Европы у нас под ногами.
Ветер битвы свистит в ушах.
Кровь и ненависть, кровь и пламя!
Полковник горестно качал головой, рассказывал Вальтеру про Гете и Гейне. Немецкий мальчик, оболваненный фашизмом, постепенно открывал совсем другой мир, начинал понимать мрак и ужас недавней жизни. На это должно было уйти время – месяцы и месяцы в реальной жизни – два действия на сцене. Но некоторые зрители четвертого спектакля не захотели ждать чудесного преображения волчонка, и стоило мне истерически выкрикнуть в лицо полковнику: «Кровь и ненависть, кровь и пламя!», как с балкона раздались крики: «У, недобиток, Гитлер паршивый…» – и еще похлеще…
Доиграл спектакль я еле-еле, слезы душили, непроизвольно текли по моим тоном покрытым, припудренным щекам. На следующий день прямо из школы я прибежал в театр, меня трясло от обиды, я чувствовал себя опозоренным навеки, рыдал в кабинете главрежа и просил снять меня из спектакля, заменить, не выпускать больше на сцену в роли фашистика. Борис Михайлович Филиппов долго успокаивал меня, говорил: чудак-человек, такие крики означают признание, ты, стало быть, здорово вжился в образ, тебе поверили, а твоя репутация ученика четвертого «б» 9‑й средней школы Петрозаводска, председателя совета отряда, вовсе не пострадала вчера, поскольку на сцене ты не петрозаводский пионер, а сын нашего злейшего врага, воспитанный врагом по образу и подобию…
Я никогда не был и не мог стать хорошим актером и рад, что удержался от соблазна (театр давал мне рекомендацию) поступать в театральный институт и связать свою жизнь с подмостками. Во мне сидел внутренний контролер, он мешал безоглядной вере в предполагаемые обстоятельства, стреноживал воображение, фантазию, не давал растворяться в чужой жизни.
Ученые лаборатории психологии актерского творчества при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, проводившие экспериментальное исследование актерской одаренности, установили, что высокий рациональный контроль над своим поведением сильно мешает органичности сценической жизни и является одной из главных причин того, что способности не всегда реализуются в деятельности. Не знаю, были ли у меня какие-то актерские способности, но потребность к перевоплощению, безусловно, была. Однако проклятый контролер, постоянно разъедающая рефлексия, помноженные, как говорят ныне моя дочь и ее сотоварищи, дипломированные психологи, на высокую внутреннюю напряженность и сильную внутреннюю тревожность, развили мучительное чувство – чувство стыда самого себя, большую помеху в любом творчестве, не только сценическом.
У Акутагавы, классика японской литературы, об этом сказано убийственно точно: «Тому, кто хочет писать, стыдиться себя – преступно. В душе, где гнездится такой стыд, никогда не пробьется росток творчества». И еще сказано у Акутагавы: «Только стой крепко на ногах. Ради самого себя. Ради твоих детей. Не обольщайся собой. Но и не принижай себя. И ты воспрянешь».
Не обольщайся собой. И не принижай себя. Возможно ли, следуя этой программе, изгнать из души стыд самого себя?..
И еще один вопрос. Что делать с быстротекущей жизнью, которая становится с каждым прожитым тобой годом все серьезнее, как под грузом лет сохранить веру в подлинность игры, потребность в игре, стремление к игре и способность ей время от времени полностью отдаваться, выходить из нее освеженным и готовым к дальнейшим поискам?..
1985, 2014Невольник чести
Артист
Борис Спасский написал эссе, опыт самоанализа «Голый король» и спрятал его в дальний ящик письменного сто ла. С самого начала работы над мемуарами дал себе окорот: пишу, но при жизни не печатаю.
Литературных амбиций, впрочем, у него никогда не было – ни в студенческие годы, когда мы вместе учились на отделении журналистики филологического факультета Ленинградского университета, ни позже, во времена его профессиональной карьеры, ни сейчас, когда он написал «Голого короля», когда у не го в работе главы о Пауле Кересе, Михаиле Ботвиннике, Федоре Богатырчуке…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: