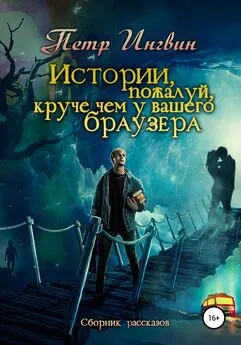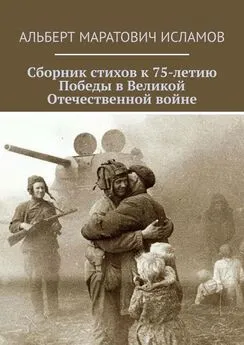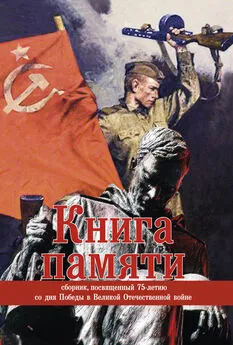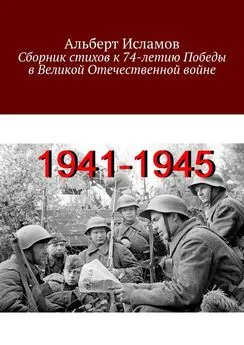Петр Горелик - История над нами пролилась. К 70-летию Победы (сборник)
- Название:История над нами пролилась. К 70-летию Победы (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Геликон Плюс
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93682-987-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Горелик - История над нами пролилась. К 70-летию Победы (сборник) краткое содержание
В ней нет попытки оправдать прошлое. Нет и попытки прошлое очернить. Книга полна достоинства и мужества.
Читатель полюбит эту книгу, написанную легко и без всякого пафоса, с той насмешливой, но и гордой интонацией, с какой рассказывают о войне наши деды.
История над нами пролилась. К 70-летию Победы (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прошло столько лет после войны, я уже был женат, дочери уже было за тридцать, росла внучка. И по прошествии стольких лет мои солдаты помнили меня. Нашли такие добрые слова о нашей совместной службе, так высоко оценили наши отношения. Не скрою, эти письма согревали мне душу. Их тепло оценили и мои близкие).
Итак, моя просьба о переводе на другую работу была удовлетворена, я передал бронепоезд заместителю и поехал к новому месту службы. Вся война была еще впереди.
5 августа 1943 года войска овладели Орлом. В 20-х числах я попал в разрушенный город. В комендатуре узнал, что штаб армии, в который я получил новое назначение, двинулся в направлении Карачева. Мне предстояло догонять штаб.
В одном из бывших общественных зданий Орла неподалеку от комендатуры (библиотека или школа), куда зашел в ожидании машины, я наткнулся на груду искореженных книг. Случайно мне попался обрывок книги Анатоля Франса, страниц 80–100 из «Современной истории»; определить автора и название не составило труда: в верхней части страниц было указано: слева – автор, справа – название.
Эти несколько страниц вызвали сумятицу в мыслях, смутили мою воинственную душу.
Мы знали свой солдатский долг и не давали себе особенного труда задумываться над моральными категориями, применительно к врагу царствовал ежедневно внушаемый лозунг: «Убей немца!». Успехи под Сталинградом, Курском и у нас под Орлом окрыляли нас. Как возмездие, как Божью кару воспринимали мы известия о начавшихся бомбардировках немецких городов англо-американской авиацией. Трудно было сознанию солдата, очищавшего свою землю от оккупантов, принять утверждение Франса о бессмысленности любой войны, бесцельности разрушений, о том, что движущая сила сражения – не долг, не патриотизм, а страх, что солдаты всегда идут вперед только под угрозой смерти со стороны своих. Для моего атеистического сознания была откровением мысль, с железной логичностью изложенная Франсом: по какому праву можно требовать от человека, чтобы он жертвовал жизнью, если его лишили надежды на загробное существование? (Много, много позже мне напомнила об этих мыслях строка из песни Булата Окуджавы: «Как помнит солдат убитый, // что он проживает в раю».)
Всего этого было для меня чересчур. Такой набор пацифистских мыслей и настроений вызвал гнездившиеся в глубоких тылах моего сознания сомнения, выход которым я по разным причинам не позволял себе – шла война. Признаюсь, я настолько был выведен из состояния душевного равновесия, что побоялся взять с собой эти обжигающие руки страницы.
Но особенно задело меня отрицание автором массового героизма на войне. На примере поведения моих подчиненных в тяжелом бою я мысленно опровергал автора, и все же в его словах я нашел подкрепление собственным сомнениям, возникавшим, когда я думал о подвиге Александра Матросова. Мы узнали о нем незадолго до орловского наступления, и были еще свежи разговоры в солдатской среде. Правда, высказывать свои потаенные мысли я не мог даже офицерам, не говоря уже о подчиненных мне солдатах.
Появление машин у комендатуры прервало мои сомнения. Я уже знал, что с выходом к Карачеву армию вывели в резерв и штаб следовало искать где-то юго-восточнее города.
В обыденном сознании к понятию «штаб армии» относят все, что составляет в своей совокупности различные подразделения управления армией. В действительности штаб армии – это одно из таких подразделений, самое важное, но все же одно из… Наряду со штабом в управление входят и другие подразделения. В одном из таких подразделений – Управлении Командующего бронетанковыми и механизированными войсками (БТ и МВ) и его штабе мне предстояло служить. Начальником штаба и моим непосредственным начальником был полковник Александр Петрович Баженов. Командовал БТ и МВ полковник Виктор Андреевич Опарин, старый танкист, из бывших кавалеристов, раненный в боях 1941 года и оставшийся в строю, несмотря на незаживающую рану на ноге.
Встретили меня радушно, но без всяких внешних проявлений чувств: штаб был занят подготовкой перегруппировки войск на север, в район Людинова. Предстоял более чем стокилометровый марш на правое крыло фронта для удара во фланг Брянской группировки противника. Мне пришлось сразу же окунуться в не свойственную мне по прошлому опыту работу.
Здесь, в штабе, я узнал, что в армию приехала группа известных писателей: А. Серафимович, К. Федин, К. Симонов, П. Антокольский и – я с трудом поверил – Борис Пастернак. Мое удивление не было случайным. Многое менялось во время войны – и в официальном отношении к религии, и в отношении к некоторым одиозным с официальной точки зрения фигурам и фактам истории России. Менялось и отношение к Пастернаку; свидетельством тому было приглашение поэта на фронт вместе с такими «своими» писателями, как Симонов и Серафимович. Это и радовало, и удивляло. Своему удивлению я недавно обнаружил веское подтверждение. В дневнике 1942–1943 годов Вс. Иванов приводит строчку из опубликованного в «Красной звезде» стихотворения И. Сельвинского, где поэт говорит, что любит своих учителей «от Пушкина до Пастернака». Вс. Иванов далее пишет: «Пожалуй, это самое удивительное, что я видел за эту войну; до войны надо было бы съесть пуд кокаина, чтобы вообразить, будто „Красная звезда” способна напечатать подобную строку: Пушкин – и рядом с ним Пастернак».
Для меня и многих моих сверстников Пастернак был поэтическим кумиром. Мы зачитывались его стихами, поэмами, «Спекторским», Его стихи легко запоминались, и многие я помню до сих пор. Строки из «Высокой болезни»:
Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек…
ощущались как эпиграф ко всему нашему времени, к нашей жизни. «Новости» конца 20-х и начала 30-х годов – коллективизация, страшный «голодомор» – горьким комом подступали и к нашему горлу. Завершающие строки поэмы («Предвестьем льгот приходит гений // И гнетом мстит за свой уход») воспринимались как пророческие.
В юности в провинциальном Харькове я думал о встрече с Пастернаком и был убежден, что еще предстоит увидеть и услышать живой голос поэта. В пору распространенных в те годы поэтических вечеров это не было чем-то несбыточным. Но даже самое необузданное воображение не могло представить, что увижусь с Пастернаком на фронте. Между тем становилась возможной встреча с поэтом именно на дорогах войны. Я понял, что не должен расставаться с его книгами, и положил в командирский планшет два сборника его стихов, которые были со мной на фронте.
В одну из своих поездок в части, проезжая деревню Ильинское, где располагался Политотдел армии, я увидел живописную группу людей, плотно окружившую начальника политотдела полковника Н. Амосова. Рядом с Амосовым выделялась фигура молодого статного человека в полевой форме. Я легко узнал К. Симонова. Кроме нескольких политотдельских офицеров, остальные были в гражданском, чувствовалось, что Симонов составлял как бы центр всей группы. Он в чем-то горячо убеждал собравшихся. Я подошел и прислушался. Говорили об успехах наших войск на юге, о взятии Харькова и о близости южных фронтов к Днепру. Но я искал глазами Пастернака.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: