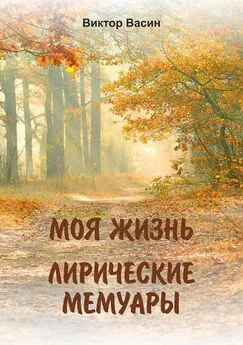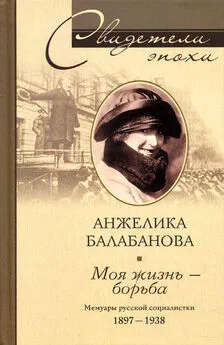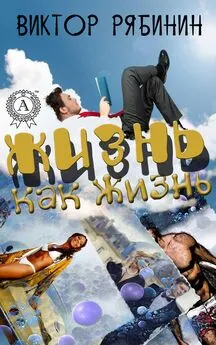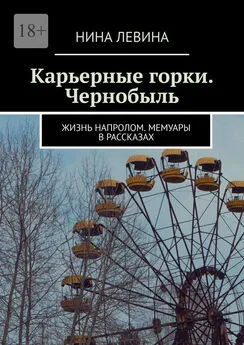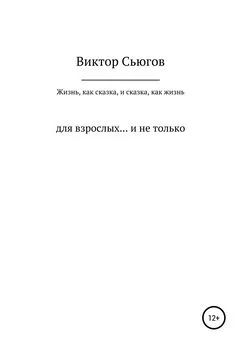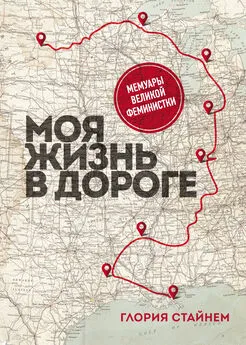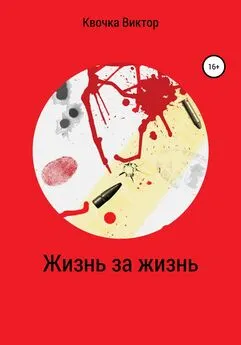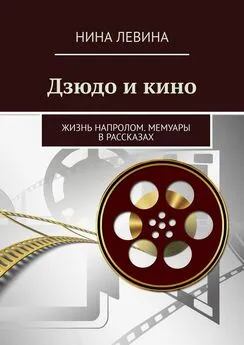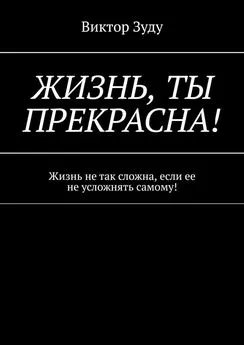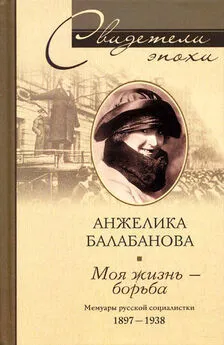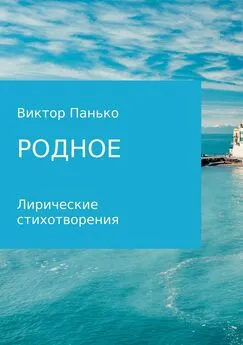Виктор Васин - Моя жизнь. Лирические мемуары
- Название:Моя жизнь. Лирические мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент ИП Думчева
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Васин - Моя жизнь. Лирические мемуары краткое содержание
Моя жизнь. Лирические мемуары - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во-вторых, я отдавал должное когорте «яйцеголовых» – истинных, не записных, и не фальшивых, мыслящих фундаментально, и дарующих люду, алчущему хай-тековского потребительского комфорта – суперсовершенные технологии.
И, наконец, в третьих, к сему списку я причислял дюжину-другую творческих голов, стряпающих на своих кухнях первозданную духовную пищу, которую затем, компилируя и извращая, конечно же, растащат по мировому общепиту…
Так, или примерно так, я классифицировал (в своих раздумьях) мировые верховные места, на которых должны восседать (и восседали в моём воображении) – первые лица! Каждое – в своей епархии. Иногда по праву, иногда – нет… Но первых мест немного.
Под этим солнцем всё больше – мест десятых, сотых, тысячных, и миллионных. И надо лишь определиться, где твоё, и не занимаешь ли ты – чужое! И не впадать в пессимум, не рефлексировать, и не увлекаться беспочвенной маниловщиной! И если, положим, нет в тебе ни творческой жилки, ни прочих-иных высоких талантов, – сокрушаться и проклинать природу, отказавшую тебе в уникальных способностях – не стоит. Стань – исполнителем! Хорошим, и соответствующим требованиям века.
И для тебя, якобы бесталанного, будет неплохой участью: образцовым профи влиться в ряды миллионов искуснейших умельцев, – прикладников, сообща раскручивающих гигантский маховик человеческого бытия…
На моё виденье, жизнь сложившегося индивида устроена просто: доля времени, от перманентно чередующихся суток, отдаётся труду, стоимость которого, в той или иной степени, удовлетворяет потребности основных инстинктов; остальные доли жизненного времени отдаются исключительно обслуживанию духа, – духа, черпающего энергию для своего совершенствования (из стоимости того же труда) – даже во сне.
Но чтобы уклад работал, мировой социум, на моё разумение, должен выглядеть следующим образом (пишу я в своей книге «Суть дела»):
«Проценту, от общины в семь мильярдов, по силам накормить людскую рать; по силам, трети от числа живущих, в достатке выдавать орудия труда. Стезя же остальных… наладить сервис, для – сеющих зерно, для – плавящих металл; поскольку и они – кариатиды рынка, желают зрелищ и духовных благ».
Глава шестнадцатая
Моя школа пришлась на послевоенные годы. Её первая, вторая, и третья ступени. На годы карточек, хронического недоедания, и убогого быта, в котором единственным информационным благом была тарелка-репродуктор. На годы телогреек, и валенок с калошами; летних кепи-шестиклинок, и бесформенных зимних ушанок; парусиновых туфель, и резиновых сапог. На годы отсутствия самих школ, как таковых. На годы размещения учебных классов во времянках, в полуразрушенных и плохо отапливаемых помещениях. На годы нехватки всего и вся: линованной бумаги, учебников, наглядных пособий, и самих учителей (чаще всего в школах второй и третьей ступени).
И всё же, эти неласковые годы, в которые и начиналось моё познание правил, законов, и форм действительности, были по-своему занятны, и не лишены спартанского романтизма. В уголках моей длинной памяти и по сей день зримо хранятся: и чернильница-непроливайка, и перьевая ручка, и сумка через плечо, сшитая из старых отцовских штанов, и писк тогдашнего нищего ширпотреба – клеёнчатый, с ремешками-застёжками – портфель.
С неподдельной грустью припоминается… и раздельное обучение мальчиков и девочек, и последующее затем – совместное.
И с особой ностальгией (школьные завтраки и обеды в те, послевоенные тощие годы, были понятием абстрактным), – припоминаются ломтики чёрного хлеба в кармане, сдобренные (в лучшем случае) каплей подсолнечного масла, и посыпанные солью.
Ломтики, жадно съедаемые всухомятку на большой перемене…
Все десять лет (тогда ровно столько требовалось отбыть в полной средней школе, дабы получить заветный аттестат), я учился охотно, без понуждений и менторских понуканий.
На первый взгляд, глагол «отбыть» здесь вроде бы неуместен. Но надо признать, что часть моих школьных сверстников тех лет сию образовательную повинность действительно отбывала. Полученный (после посильного десятилетнего отбывания) аттестат, конечно же, был всего лишь формальной бумагой, удостоверяющей факт окончания полной средней школы. И вряд ли выданный документ, с водяными знаками и гербовой печатью, определял уровень базовых знаний «аттестованного». Выходной аттестат, с красующимися в нём попредметными отметками: «посредственно», и никогда: «хорошо», – красноречиво свидетельствовал, что «средней образованности» предъявитель подобного сертификата, мягко говоря – не достиг. Но бумага давала возможность обрести кое-какую профессию, и избежать (при желании) участи пополнения собой армии безлико-никчёмных, низовых исполнителей.
Я же учился всерьёз потому, что было интересно. Сладость познания – особая сладость. И гормон радости дарует мозг не тогда, когда ты узнаёшь – что есть число, буква, предмет, или явление, а лишь когда приходит разумение – почему это так, а не иначе.
Трудное, и не всегда скорое овладение пониманием: «почему?» – приносит и интеллектуальный кайф, и порождает уважение к самому себе. Но овладение пониманием – занятие не из лёгких, и требует недюжинного терпения. И плод познания бывает сладок, лишь когда ты его срываешь дозревшим, а не надкусываешь зелёным, заполученным тобой через натаскивание либо механическое заучивание.
Поверхностная осведомлённость знанием быть не может. Плохо обученный индивид, даже берясь за простую задачу, находит правильное решение только после того, как перепробует все неверные варианты. Метод «авосьного тыка», при решении собственных житейских проблем, люб, прежде всего, дремучей бездари, которой в забаву попадать пальцем в небо.
Но к этому же методу прибегают и никчёмности, и любители дармовщинок, так и не освоившие базу, а, посему, вынужденные уповать лишь на счастливый жребий, который непременно (по их же разумению) – должен однажды выпасть именно им.
Нынче вот спорят, надобны ли младшему школьнику – чистописание и каллиграфия, а старшему – астрономия, логика и психология. Ломают копья вокруг дилеммы, где нужно ставить подвижное ударение, и к какому роду отнести новоиспечённый неологизм.
Мышиная возня, игры «мужей», облачённых в академические мантии. Каждый вновь пришедший министр образования (и подсюсюкивающая ему рать приспешников), почему-то считают, что именно они призваны оздоровить якобы хворающий школьный организм. Но их указующее крючкотворство оставляет лишь грубые шрамы на совершенном теле базового образования.
Разве суть знания в частностях?
Разве интерактивные доски, столы, и повальная компьютеризация избавляют ученика от необходимости мыслить, и от умения делать разумные умозаключения?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: