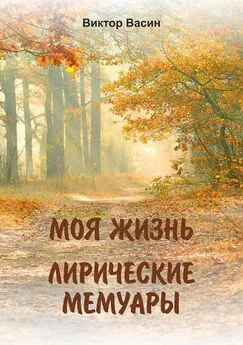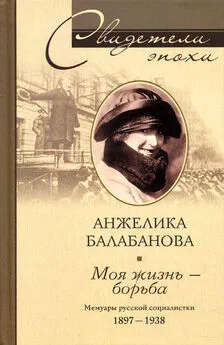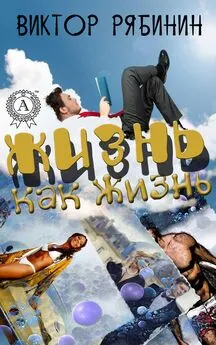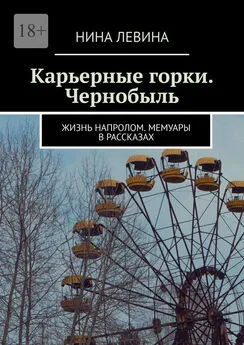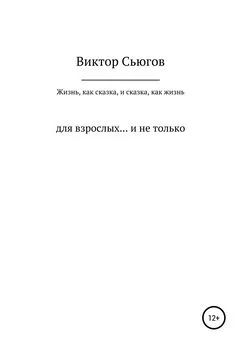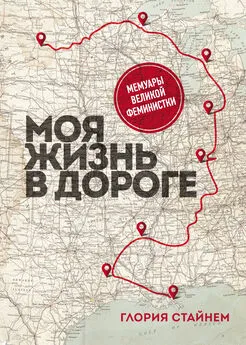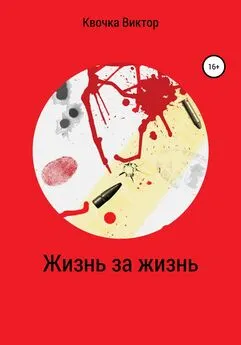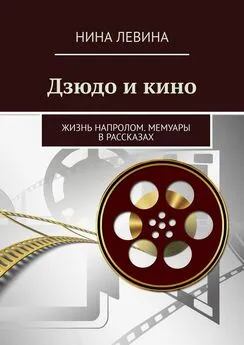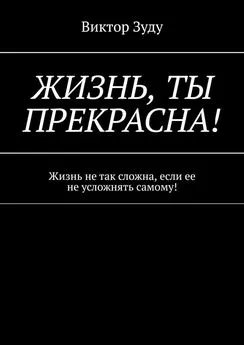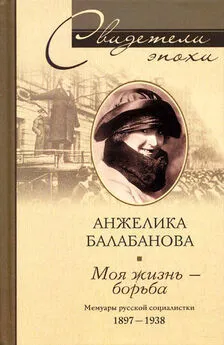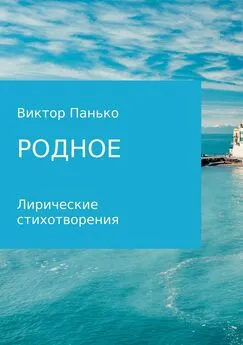Виктор Васин - Моя жизнь. Лирические мемуары
- Название:Моя жизнь. Лирические мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент ИП Думчева
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Васин - Моя жизнь. Лирические мемуары краткое содержание
Моя жизнь. Лирические мемуары - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И разве естественные законы школа вправе толковать двояко только потому, что кое-кто из плеяды «учёных мужей», ревизующих учебники, позволил себе усомниться… в априорной сути природных явлений?
Фундаментальная база истинного знания, отшлифованная столетьями, в своей изначальной, первозданной основе должна оставаться незыблемой. Надо только уметь подать базу так, чтобы классическая мелодия знания узнавалась бы в дирижёрской подаче – по её первым стержневым нотам.
И не столь уж важно – подаётся ли мелодия хрестоматийного знания в авангардистской, в конструктивистской, хай-тековской, либо в метафизической аранжировке…
Мне почему-то верится, что покуда вокруг Солнца вертится шарик по имени Земля, натуральных чисел будет ровно столько, сколько необходимо для счёта. И букв в алфавите, как гласных, так и согласных, количественно тоже будет ровно столько, сколько необходимо для удобного чтения и внятного изложения мысли на бумаге. И на тело, погружённое в жидкость, будет действовать всё та же выталкивающая сила. И квадрат гипотенузы будет неизменно равняться сумме квадратов катетов. И сумма всех углов любого треугольника всегда будет слагаться из градусов двух прямых. И число «пи» всё так же будет стремиться к бесконечному периоду.
И ампер будет ампером, ом – омом, а вольт – вольтом.
И формула воды будет всё той же.
И сказанное однажды Ньютоном, Коперником, Менделеевым и Эйнштейном, – останется становым и неколебимым на ближайшие века и тысячелетия, поскольку верность ими сказанного подтверждается работой естественных законов.
Краеугольные камни, заложенные в субстрат мирового знания, на то и краеугольные, что ревизионистские попытки околонаучной братии – искрошить, расшатать их, либо поменять местами – от Адама и по сей день, заканчиваются крахом и аргументированным (и весьма ядовитым!) осмеянием псевдонаучных мудрствований ревизионистов.
И уличение бузотёров от науки в постыдном демагогическом невежестве всегда было (и будет) делом чести истинных хранителей краеугольных эталонов вселенского мироустройства.
Зачем изобретать велосипед… знаний, якобы подобающий только этому народу? Разве таблица умножения нуждается в национальных одеждах, а правило буравчика в расовом окрасе?..
Глава семнадцатая
Я напрягаю память, и из её дальних уголков выплывает школа тех лет. Прежде всего – начальная: букварь, знакомство с четырьмя арифметическими действиями, освоение письма и чтения. Затем обычная, более чем средняя, без языковых, математических, и прочих уклонов, нисколько непохожая на нынешние лицеи, гимназии, и закрытые частные пансионы. Не знаю как сейчас, но тогда, уже в начальной школе, среди нас, детей, наблюдалось расслоение. Нет, не социальное – расслоение по способностям, по умению быстро (но не бездумно!) схватывать информацию, и по половому буквоедству. Девчонки отличались прилежанием, усидчивостью, и завидным (но малопродуктивным) усердием. Слуховая память, по-видимому, у них была более развита, и менее – зрительная. Механическое запоминание давалось им легко, но анализ и осмысление – с трудом.
Мальчишки отличались непоседливостью, врождённой ленью и склонностью к заумному фантазированию. Но те, в ком рано просыпалась тяга к познанию, учились охотно, и эту привычку, как своеобразную страсть, затем проносили через всю сознательную жизнь.
Уже тогда, рядом с тусклыми, пустыми, и ко всему равнодушными глазами большинства, я замечал жадно горящие глаза, научающегося мыслить – меньшинства. К такой, озабоченной любопытством, но, надо признать – малочисленной кучке мальчишек, в те школьные годы, видимо, я относил и себя…
Класс первый тех послевоенных лет, в котором поначалу насчитывалось 25–30 учеников, к десятому худел до 15–18. Тому были причины: уходили после 7-го, начиная работать, – нужен был кормилец в семье. Родители девчонок и вовсе считали, что полное среднее образование барышням послевоенных лет – ни к чему.
Продолжающие образовательный марафон делились на несколько групп: на преуспевающих – на «хорошо» и «отлично», на едва тянущих – на «удовлетворительно», и – на желающих (но не ясно, для какой цели?) всего-то получить «сертификат» об окончании средней школы. Последним не было дела ни до трёх законов механики, ни до географического устройства мира, ни, тем паче, до истории своей страны. Писали (и это оставалось их ахиллесовой пятой навсегда) с грубыми ошибками; синтаксис был для них – тайной за семью замками. Словарный запас не выходил за пределы быта. Изъяснялись короткими фразами, поскольку даже примитивным умением – согласованно строить сложносочинённые и сложноподчинённые предложения – не владели. Речь, как правило, была засорена жаргонизмами. Ударения в расчёт не принимались. И, конечно же, аттестуемые «по факту пребывания» – путались в заглавном и строчном написании терминов, аббревиатур, и названий. Число же подобных «аттестантов» в те времена доходило – до половины выпуска…
Таков мой взгляд на содержание, структуру, и внутренний мир образовательной школы первых десяти послевоенных лет, и на нас – тогдашних октябрят, пионеров, и четырнадцатилетних комсомольцев.
…Кстати, германцы на оккупированных территориях школы не запрещали, и даже принуждали старшеклассников продолжить образование, не препятствуя преподаванию в сих поднадзорных учебных заведениях математических и естествоведческих дисциплин. Подвергалась ли школьная программа идеологической чистке, и вносились ли в неё национал-социалистские коррективы – не знаю. Девушек продолжить образование не принуждали, исповедуя догмат «третьесортности» слабого пола.
Какую завтрашнюю цель преследовали оккупационные власти? Полагаю, строители тысячелетнего Третьего рейха, намереваясь надолго осесть на славянских землях, понимали, что для будущих экономических нужд, для восстановления (на немецкий манер!) на завоёванных землях разрушенных хозяйств, – им, принципалам, непременно понадобятся приспешники… и мелкие управленцы из числа местных славян. Возможно, понимали и то, что немецкий способ возрождения хозяйств потребует от подручных низового уровня – определённой, и довольно высокой образованности.
Колхозная же голытьба, имеющая за душой всего лишь школу первой ступени, казалась им рабски-убогой, и для приспешничества (в их понимании) была непригодна.
Вот и позволяли старшеклассникам продолжить образование, держа в головах задумку – вылепить из юнцов не только будущих клевретов, но и грамотных управленцев «унтерского» звена.
И по окончании войны эти годы учёбы старшеклассникам зачитывались как успешные, и аттестат советского образца выдавался (кажется, после досдачи экзамена по Конституции СССР)…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: