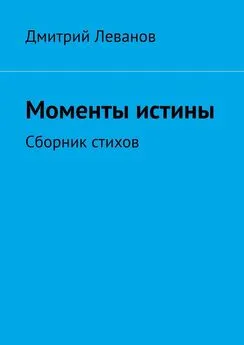Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса
- Название:Музыкальные истины Александра Вустиса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4458-3781-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса краткое содержание
Музыкальные истины Александра Вустиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– И вы это слышали сразу во всей тембровой палитре?
– Ну, нет! Наверное, не совсем так. Но, во всяком случае, я на репетиции понял, что ни в чем не ошибся. Значит, наверное, я это и слышал в себе. Но сейчас точно не помню, конечно.
– Меня вообще интересует: слышите ли вы звучание того что пишете в полном объеме или это для вас только какой-то смутный, не дифференцированный тембровый, гармонический или еще какой-то «образ» сочиняемого материала? Что значит для вас «слышать в себе»? Что вы слышите? Каждую ноту?
– Нет, не каждую, естественно. Меня и сын Юра недавно как раз спросил слышу ли я полностью, там, аккорд какой-то сложный, или что… Скорее я, наверное, действительно слышу тембрально как и что должно звучать у меня. Тембрально, красочно. Но что это? Я не знаю. Не знаю как это определить точнее. Слышу, знаю что слышу, но что это конкретно, я сказать вам не могу.
– Ну, вот допустим, если бы я взял да убрал пару, тройку нот из какой-нибудь вашей многозвучной вертикали, это бы повлияло на…?
– Ну, конечно, вы что-то обеднили бы и как же это не услышать. Этого нельзя не услышать. Тут собственно важно богатство какого-то внутреннего и даже не слуха, а звукового, ритмического и даже штрихового воображения. Потому что, что значит: «Слышу все?» Это какие-то слова! Причем чисто метафорические. Ну что значит «слышу»? Воображение, воображение и представление о том, что это должно быть и что должно хорошо звучать. А, кроме того, если работаешь вот так, как бы условно говоря по баховскому «уроку», то всегда здесь каждый голос отделываешь с той ответственностью, что этот голос – не случайная краска или, там, какое-то дополнение, или уплотнение, и что какой-то там должен появиться акцент – это не просто так. Нет! Он живет своей жизнью, он важен! Так было и когда я для ударных писал ту же «Меморию» 38 38 «Memoria 2». Концерт для ударных, клавишных и струнных – 1978; dur. 14'.
и так же у меня в каждом новом сочинении. Ведь, например, каждый ударный голос – он также фактически самостоятелен, как и любой другой голос: и струнный, и вокальный. И развивается как своя собственная тембровая и образная линия. Не знаю, понятно ли я объясняю.
– Вполне понятно. Спасибо. А как вы оцениваете свою «Симфонию…» в гармоническом плане: как достаточно традиционно-тональное сочинение или…?
– Тональное! Конечно тональное. Но мне казалось, что там, где начинаются разработочные эпизоды, там естественно размывается как бы ощущение тональности, но это же нормально в такой разработочной ситуации. И тем более, что, по-моему глубокому ощущению, вообще нетональной музыки не существует, потому что все равно в движении каждого голоса, мы же не можем отменить тяготение. Мы же не мертвые люди. И если вот изучать скрупулезно каждый голос, все равно видишь, что вся эта система абсолютно ладовая. Вся! Понимаете?
– Это сочинение пятого курса?
– Нет. Это третий-пятый курсы. То есть оно писалось порядочно – года два примерно. Ну, может быть, полтора года. Я точно не помню. Первый раз я показал его на фортепиано, по-моему, в конце третьего курса, если не ошибаюсь, а может быть в начале четвертого. (Нет! Не помню!)
– А чьи влияния вы здесь ощущаете?
– Даже не знаю. Один наш родственник, прослушав эту вещь, сказал, что у него такое впечатление, что я занимаюсь не в классе Фере, а в классе Форе. Но это высказывание я оставляю на его совести. В классе Форе естественно я не учился, да и не настолько знаю этого композитора. Но есть здесь действительно какая-то его утонченность письма, может быть, некоторая. Хотя, с другой стороны, есть ведь и уплотнения, которых у него возможно не было. Вот в кульминации второй части, например. Я немножко потом это подредактировал и еще больше даже уплотнил. Но я не знаю, на что это похоже.
– Александр Кузьмич, а почему у вас возникло такое влечение к Грину?
– Наверное, потому что Грин у меня всегда вызывал ощущение каких-то приятных грез, каких-то приятных сновидений. Правда, потом во мне как-то «упало» это все и я почувствовал, что хочу назвать свое сочинение строго – «Симфония для оркестра». Но, может быть, я и ошибся. И Грин в этом, конечно, не повинен. Мне, знаете, было даже как-то приятно в вашей книге услышать, что Эдисону Денисову тоже очень симпатичен этот писатель, что он его любит и читает…
«Кантата на стихи военных лет 1971; для солистов, хора и оркестра; сл. Б. Пастернака, А. Суркова и П. Элюара (перевод П. Г. Антокольского); dur. 30'
– «Кантата…» сочинялась с большими перерывами и в течение долгого какого-то срока. Я не помню – сколько, но пять лет – это минимум. А в первый раз она возникла в 1963 году. Причем – во сне! В самом настоящем сне. Ну, не сама «Кантата…», конечно, а какая-то ее интонация – это понятно.
– А если подробнее немножко?..
– Ну, что здесь можно рассказать? Было зимнее время, я служил тогда как раз в армии и, вот представьте себе, услышал во сне хор, а в нем даже запомнил интонацию, которая потом даже стала началом второй части.
– И сразу стало понятно, что это будет вторая часть?
– Нет, естественно. Я просто проснулся, записал эту интонацию и в результате получился такой вот марш какой-то странный.
– А после того как записали интонацию, уже не спали?
– Нет! Все наоборот: как записал, так опять и заснул с удовольствием даже.
– Вы служили в Москве?
– Нет. В Бологовском районе. И вот, как я уже сказал, возник какой-то уж очень странный марш и, причем, у хора «а капелла» Никаких еще тогда не было слов. И потом они, кстати, как-то коряво были приделаны (я об этом еще отдельно скажу обязательно). Просто получился некий вокализ хоровой. Его можно даже петь (как и сказано в конце этой части) с закрытым ртом. И вот на это пение накладывается марш – жуткий такой, и это иногда подхватывается и барабаном. И, кстати говоря, еще и другой кусок «Кантаты…» тоже в армии возник.
– И опять во сне?
– Ну, что вы. Это было бы уже «слишком хорошо». Не во сне, конечно. Совершенно мистериозный кусок, какого-то совершенно болезненно радостного состояния. Не бурно радостного, а болезненно радостного именно, я бы сказал так.
– А он в какую часть вошел?
– В третью. Я, кстати, издал его потом в виде вокализа.
Вначале я начинал этот материал с ми (может быть и правильно начинал), но потом отчего-то растерялся и начал с соль . Здесь была еще и какая-то гармоническая (тогда почему-то важная для меня) работа на «До мажоре». Меня вообще всегда влекло писать музыку и простую и непростую одновременно. Это вот и в «Возвращении домой» 39 39 «Возвращенье домой» – 1981; для баритона и тринадцати инструменталистов (два струнных квартета, два фортепиано, валторна, два исполнителя на ударных иструментах); сл. Д. Щедровицкого; dur. 13'.
, может быть, наиболее цельно воплотилось, и в этой «Кантате…» тоже. В общем, получился какой-то мистериозный, может быть, гимн, но гимн, кстати, скорее внутренний, я не знаю даже, как это точнее охарактеризовать. Ведь это еще тогда поначалу не было прилеплено к какому-то определенному сюжету. Только потом оно стало частью «Кантаты…». Позже. Текста-то здесь в основном нет. Распевается только одно слово – «радость». Это конечно не ода «К радости», но радость такая, знаете, как бы немножко онеггеровская что ли.
Интервал:
Закладка:
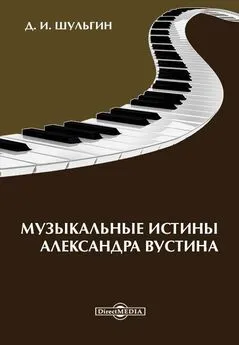
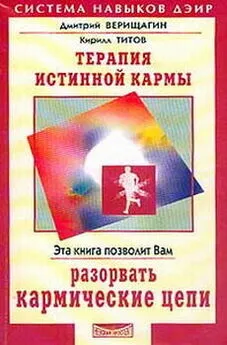
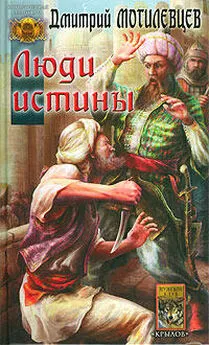


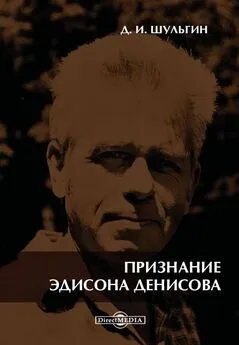

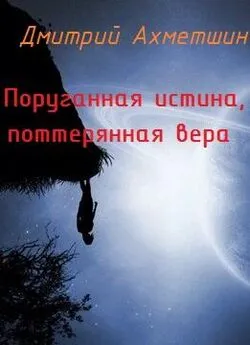
![Дмитрий Серебряков - В погоне за истиной [СИ]](/books/1061331/dmitrij-serebryakov-v-pogone-za-istinoj-si.webp)