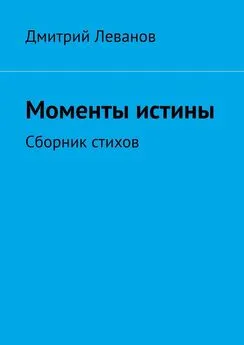Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса
- Название:Музыкальные истины Александра Вустиса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4458-3781-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса краткое содержание
Музыкальные истины Александра Вустиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– «Онеггеровская»?
– Да. Потому, что я увлекался Онеггером как раз в то самое время. Вспомните, например, его «Царя Давида»…
И первая часть, кстати, также возникала вначале, как бестекстовый хоровой материал. А стихи появились потом. Но как это складывалось конкретно и в какой последовательности я уже совсем не помню. Главное, что вначале это все было без текста и даже были названия: «Песнь скорби», «Песнь мщенья» (вторая часть), «Песнь радости». Но одновременно были у меня и какие-то опасные предчувствия по поводу названий. Наверное, так. Короче говоря, вот на эти три нужных мне состояния, как бы, условно говоря: скорбь, гнев и потустороннюю какую-то радость, я потом довольно долго подыскивал текст.
Это, кстати, сочинение, примыкающее к моему Тейфу 40 40 «Три стихотворения Моисея Тейфа» – 1966; для баса и фортепиано (перевод Ю. Мориц); dur. 9'.
, но без окраски еврейской – просто общая военная тематика. И довольно искусственно в «Кантате…» (некоторая странность какая-то все-таки есть во всем этом, по-моему) возникает текст, потому что он возникает в каждой из частей довольно поздно после длительного развития музыкальной ткани.
И для первого своего образа я нашел стихотворение Пастернака «Страшная сказка». И вот, как видите, стихи эти Пастернака возникают, фактически, уже чуть ли не в качестве коды, или, по крайней мере, эпизода небольшого где-то перед самым концом части:
«Все переменится вокруг,
Отстроится столица,
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.
Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.,
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться».
И чем Пастернак для меня здесь выше Суркова – следующая часть или Элюара – третья часть, – он не говорит о людском суде, а говорит о суде Высшем:
«Запомнится его обстрел,
Сполна зачтется время,
Когда он делал,
Что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.
Настанет новый, лучший век,
Исчезнут очевидцы,
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться».
Это какой-то нравственный суд, или, быть может Божий суд. И видите, эти стихи Пастернака, они возникли буквально на исходе части.
И то же самое во второй части. Вот этот марш какой-то странный, как будто во сне прокрученный. Здесь даже есть гроздья гнева с очень коряво подтекстованными строчками (я думаю, что это надо менять, в таком виде нельзя исполнять, это даже произносить неудобно 41 41 31-я цифра – Д. Ш.
). Вся эта часть выражение гнева, вырвавшегося наружу. Понимаете, из самых глубин души. Ярость! Ярость! И я нашел здесь именно у Суркова, отнюдь не любимого мною поэта, но нашел наиболее адекватное тому, что искал:
«Могилам близких мы теряем счет,
Печаль стоит у каждого порога,
Разбит очаг,
Под пеплом кровь течет,
Приводит к мести каждая дорога».
Какая страшная правда в этих стихах. Но вторая строфа звучит хуже:
«Мы стали беспощадней и грубей, Полынной горечи хлебнув без меры»,
или совсем уже страшные слова:
«Во имя жизни заповедь: Убей!
Мы приняли, как первый символ веры».
Очень сомнительно все это, конечно, но мне казалось, что вот в этом контексте, контексте войны, в контексте крови неслыханной – это была правда момента. А так – не мне судить насколько это верно. И потом появляется фугированное построение: «могилам близких мы теряем счет» – немножко изменена по-своему тема, проводится четверная фуга – у каждого голоса своя тема. Получилась, я бы сказал, большая развитая фуга и плюс к ней всякие всплески контрапунктические у духовых – какие-то струйки энергетические.
– И при этом совершенно разные мелодические темы?!
– Все разные. Совершенно разные!
– Но слова одни и те же?
– А слова одни и те же: «Могилам близких мы теряем счет» – это, кстати, центральный эпизод не только второй части, но и всей «Кантаты…». И здесь важны, конечно, по выразительности и инструментальные контрапункты, и даже просто отдельные как бы вставки, оркестровые интермедии фуги, так скажем. Например, когда проводится материала у тромбона и хоровой материал в 46-й цифре. Но главный момент «Кантаты…» (может быть на нем держится и вся форма сочинения) – это развитая фуга, гигантская даже четвертная фуга. К сожалению, она еще не исполнялась, а очень жаль – очень сильный материал, когда поются сразу четыре темы, как в поздней кантате Танеева «По прочтении псалма». Причем у меня это разные голоса, разные темы мелодические, но говорят-то они об одном и том же, хотя и каждый по-своему! Об одном и том же не в смысле музыки, конечно, а в смысле образа!
– Сочинение исполнялось целиком?
– Нет. Никогда. Но если бы вот встал сейчас вопрос об исполнении, то надо было бы поработать с текстом. Потому что, повторяю, те места, которые возникли раньше без текста, то есть когда еще не складывался материал в какое-то одно большое сочинение, они очень неуклюже подтекстованы, с моей точки зрения.
– А кто вас заставил так подтекстововать?
– Я сам, потому что думал тогда, что так будет хорошо, но я же все-таки был еще «маленький». Мне казалось, что нужно, вот не просто: «А-а-а», а нужно целое слово «радость». Это как заголовок своего рода!
Так что будете переделывать?.
– Не знаю. Руки не доходят, как говорится. Ведь этим надо заниматься. А когда? Получится колоссальный разворот. Нужна большая работа. Изменится текст, изменится и музыкальный материал. Это же несомненно.
– Скажите, пожалуйста, а почему возник двухлетний перерыв между «Симфонией…» 1969-го и «Кантатой…» 1971-го?
– Так ведь фактически «Кантата…» была полностью в партитуре закончена за пределами консерватории. На дипломе же только первая часть была показана. А началась она в 1963-ем году, но в клавире материал был сделан только в 1966-м году. Основной же год ее написания как раз приходится на период, когда я работал над «Струнным квартетом и «Тремя стихотворениями Тейфа».
– И в каком варианте вы ее показывали в консерватории?
– Я показывал на фортепьяно, кусочками из клавира. Потом, когда я закончил партитуру первой части в ее тогдашнем варианте, то расписал клавир уже на четыре руки. И мы с одним приятелем сыграли эту часть на выпускном экзамене среди прочих моих сочинений – «Струнного квартета» и «Симфонии…».
– А почему на протяжении стольких лет вас влекло к военной тематике?
– Не знаю. Может быть потому, что я сам находился в армии, а может быть это какие-то личные ощущения, которые связались с обостренным восприятием этой темы вообще. Я сейчас не знаю даже как это объяснить. Понимаете, просто эта тема имела очень сильное для меня звучание тогда. Даже в «Струнном квартете» есть отголосок этого – во второй части, где возникают образы замученных и погибших. Ведь вторая часть так и называется «Призраки». И там эти призраки как лики погибших… Для меня, правда, по музыке особенно дорого начало третьей части «Кантаты…». Мне кажется, это вот то, к чему я всегда стремился. Вот эти первые четыре ее страницы – это та музыкальная материя, к которой я в принципе иду все время – какая-то неземная музыка, просто неземная.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
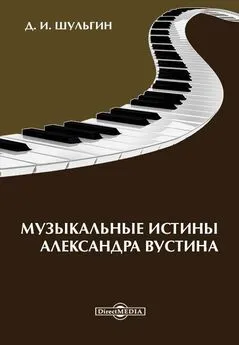
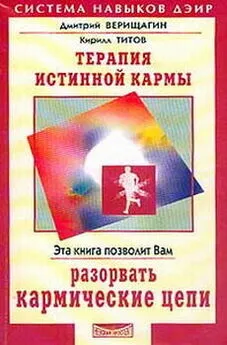
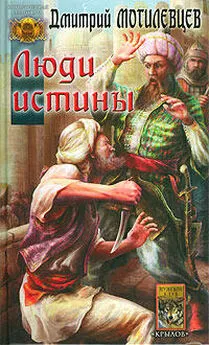


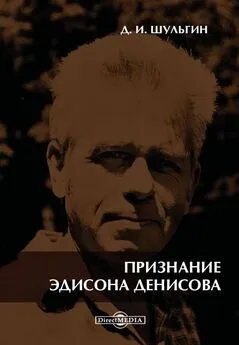

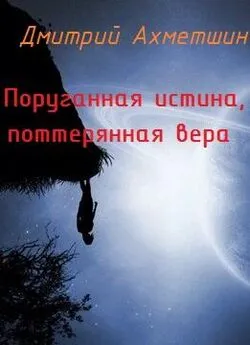
![Дмитрий Серебряков - В погоне за истиной [СИ]](/books/1061331/dmitrij-serebryakov-v-pogone-za-istinoj-si.webp)