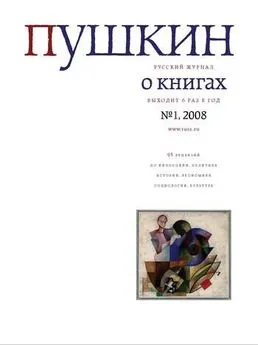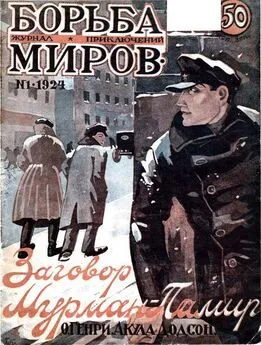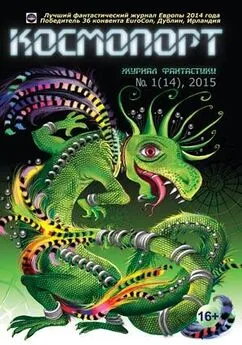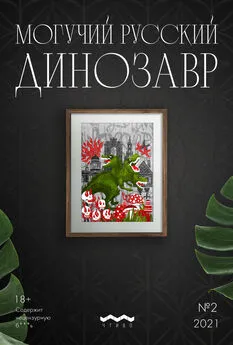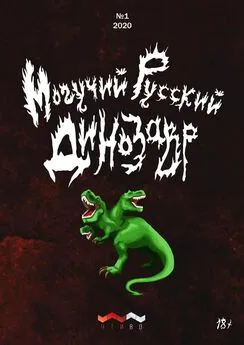Русский Журнал - Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008
- Название:Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Array
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Русский Журнал - Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008 краткое содержание
В номере:
Статьи Михаила Маяцкого, Иммануила Валлерстайна, Альберто Тоскано, Славоя Жижека, Дэвида Симпсона, Алексея Апполонова, Александра Бикбова, Майкла Томаски, Шона Коллинза, Аарона Бенанава, Дика Ховарда, Валерия Подорога, Эманюэля Ландольта, Чалмерса Джонсона, Бориса Межуева, Вигена Акопяна, Карена Свасьяна, Ивана Лабуева, Романа Ганжи, Ильи Дедекинда, Михаила Афанасьева, Екатерины Росляковой, Олега Игнатова, Андрея Лазарева, Ольги Эделъман, Александра Антощенко, Игоря Дубровского и др.
Вы пройдетесь по книжным магазинам города и совершите «покупки» с Модестом Колеровым, Борисом Куприяновым, Михаилом Рогожниковым, Артемом Смирновым и Сергеем Мазуром.
В номере в качестве иллюстраций использованы работы русских художников ХХ века.
Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
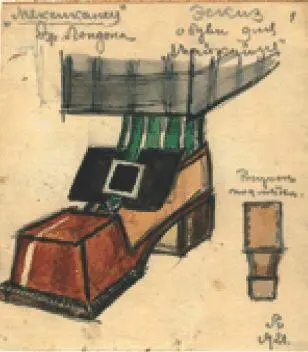
Таким образом, в классических реди-мейдах Дюшана, Уорхола и Фишли и Вайса главное не то, что они совершают эпатажный по отношению к аудитории дадаистский жест, а то, что они изобретают «несуществующее» различие. Гройс утверждает, что это парадоксальное «различие» вне различия вечно, потому что материальное выражение этого неразличного различия вынесено из реальности в музей (в «другое место»). [20] Однако, возможно, «вечным» здесь является не только сам тавтологический корпус реди-мейда в зоне гетеротопии, но и машина смысла, навсегда разомкнувшая писсуар реальный и музейный, – то есть динамический элемент переноса, А он превосходит бинарное противопоставление реальности конечной, профанной, и реальности музейной, гетеротопической.
Еще одной важнейшей формулой авангарда выступает в книге совсем не авангардная, на первый взгляд, презумпция равенства всех образов. Гройс объясняет это тем, что политика утопии – это универсальная политика включения, а не исключения на основании вкуса или эксклюзивности того или иного объекта.
Многие философы обращаются к презумпции радикального равенства (например, Бадью и Рансьер), вызывая порой недоуменные нарекания или обвинения в наивности и безответственности. А недоуменный вопрос часто состоит в следующем: если в политике можно предполагать презумпцию некоего гражданского равенства, то как можно предполагать презумпцию равенства в таких областях, как философия или искусство? Ведь представления о мире и методы выражения столь различны, несовместимы. Тем более как можно требовать равенства в области эстетики, требовать отмены «исторической привилегии шедевра», как этого требует Гройс?
Ответ автора таков, что художественным произведением может быть только то, что уже помыслило утопическую эгалитарность, а значит, и неиерархическую зависимость между предметами мира (как и в философии: согласно Бадью, философским утверждением может быть только то утверждение, что априори эту презумпцию равенства в себя включает). Только когда художник оказывается способным помыслить ситуацию открытой неиерархичности жизни в мире (пусть она и утопична), тогда он способен мыслить и равенство имиджей и предметов мира. Это не только не стирает критериев, как считает Гройс, но, напротив, «только то искусство хорошо, которое подтверждает это равенство всех образов… Хорошая работа та, что подтверждает формальное равенство всех образов при условии их фактического неравенства» (с. 13–23).
Презумпция равенства всех образов, судя по всему, предполагает перспективу, которая основана не на визуально чувственных параметрах образа, а на дефантазматизации образа, на дефункционализации предмета. Ведь если предметы и их образы лишаются функциональности (то есть как бы выходят из утилитарного взаимооборота), то они приобретают особый материальный и эйдетический статус. Они становятся «одинаковыми», в одинаковой степени неутилитарными предметами или «просто» предметами. Условно эгалитарное художественное сознание может произвести «новые» предметы и образы, только забыв об иерархии предметного мира, забыв о разделении между миром феноменальным, природным, культурным и художественным.
Этот элемент утопии как презумпцию авангарда, эту политику включения Гройс главным образом размещает не только в советском искусстве (авангардном, соцреалистическом и концептуалистском), но и постсоветском искусстве 1990-х и даже 2000-х годов. Гройс объясняет это тем, что капитализм, как и приватизация и рынок, в России были навязаны сверху как предмет новой веры. Как и коммунизм, капитализм в постсоветском пространстве имел искусственное происхождение. И капиталистический этап посткоммунизма тоже имел место как внезапный переход на более правильную «идиллию» (утопию?), только не социалистическую, а капиталистическую (с. 170). По сути же, отношение к социальному проекту постсоветского капитализма в постсоветской России было не критическое, не аналитическое, а близкое к ожиданию нового утопического рая изобилия. С другой стороны, у ряда художников чувственность подлинно «советского» вышла на поверхность именно в 1990-е годы как образ и риторика трагически утерянной утопии.
Образы утопической идеи, как бы склеивающей распавшуюся реальность постсоциализма, откровенно проступают и в видео Ольги Чернышевой, и в работах Дмитрия Гутова, и в постсоветских фотосериях Бориса Михайлова, и даже в акционизме 1990-х годов. Однако, на наш взгляд, парадигма утопии в русском искусстве распадается с началом 2000-х годов. Это происходит в связи с расцветом ресурсного капитализма на фоне безостановочного формирования элит в разных областях. Утопическое и протокоммунистическое бессознательное на глазах испаряется не только из социального пространства, уже теряющего и элементы постсоветского, но и исчезает и в художественных в работах. [21] Одним из художников все еще настаивающим на утопическом видении остается Ольга Чернышева, См, ее серии «Панорама» и «Сады Мичурина».
Утопия из российского искусства исчезла сразу, как только арт попал в систему откатов и продюсерских методов управления, свойственных для российского шоу-бизнеса. Оттеснение парадигмы утопии имеет место еще и потому, что по справедливому замечанию В. Мизиано, стремление к вестернизированной, «цивилизованной» манере репрезентационных практик ассоциируется у российских культуртрегеров и художников с классовым скачком и элитизациеи, но отнюдь не с эмансипацией и расширением эгалитарного проекта.
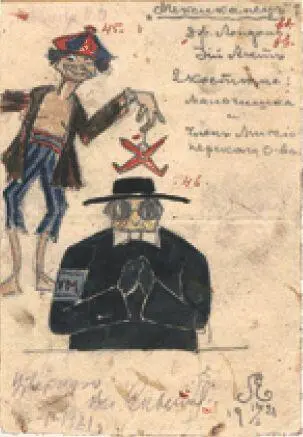
Что же сохраняет (если сохраняет) в западном искусстве потенциальность авангарда сегодня, когда и там логика иерархии престижа галерей и арт-рынка пытается всеми способами избавиться от теоретической медиации критика и куратора, как бы настаивая на первородной непосредственности изобразительного искусства. (Что же может быть первороднее желания укрепить впечатление от произведения через его приобретение?)
Наконец, как художнику исследовать реальность или продолжать авангардный проект жизнестроения, когда эти самые жизнь и реальность оккупированы массмедиа и коммерцией? Иначе говоря, какие проекты способны продолжать сегодня авангардные практики в условиях неолиберальной «демократии»?
Создается впечатление, что Гройс видит потенциальность авангардной бескомпромиссности (гетеротопии) не столько в отдельном произведении того или иного художника, не в непосредственности произведения (этот кантовский критерий чувственного созерцания, судя по всему, захвачен рынком и практикой коллекционирования), сколько в откурированном пространстве или в практике куратора (с. 43–53). В этом смысле художником современности куратор является не в меньшей, а даже в большей степени, чем артист. Именно кураторская практика может сегодня осуществлять иконоборческое перекодирование реальности одновременно с ее авангардным (иконографическим) проектированием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: