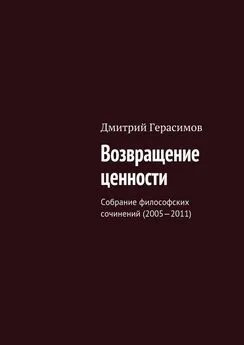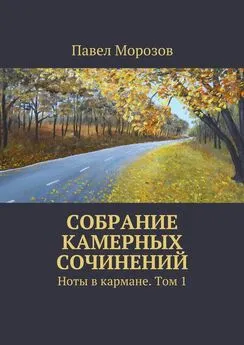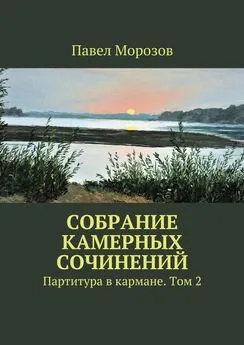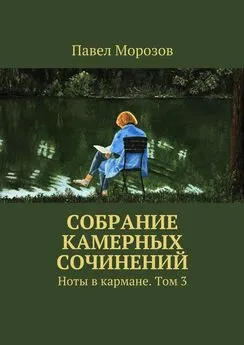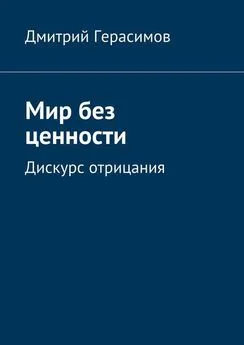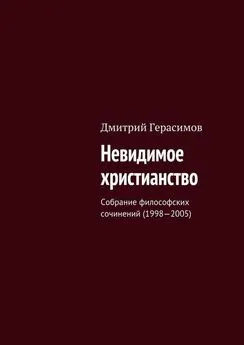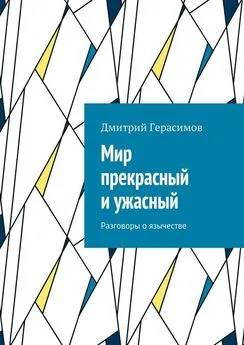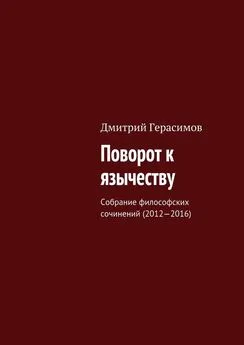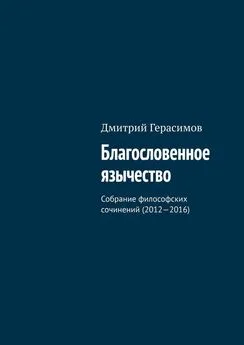Дмитрий Герасимов - Возвращение ценности. Собрание философских сочинений (2005—2011)
- Название:Возвращение ценности. Собрание философских сочинений (2005—2011)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448358449
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Герасимов - Возвращение ценности. Собрание философских сочинений (2005—2011) краткое содержание
Возвращение ценности. Собрание философских сочинений (2005—2011) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В сфере идеологического обоснования в начале XVI в. решающее значение имели два документа – «Повесть о белом клобуке» посольского толмача Дмитрия Герасимова, в которой представлялось и мотивировалось перенесение на Русь, как в третий Рим, церковной святыни, и послание старца Филофея, инока псковского Елеазарова монастыря великому князю Василию III с характерным названием «О исправлении крестного знамения и о содомском блуде», в которых формулировалась основополагающая идея «Москвы – Третьего Рима», впервые обосновывавшая национально-религиозный вероисповедный приоритет русского православия и фактически ставившая крест на любых внешних притязаниях. Идея «Москвы – Третьего Рима» составляла внутренний центр новой веры , служившей источником массового общественного энтузиазма и тотальной мобилизации русского общества (с массовыми театрализованными действами и вновь создаваемыми общественно-государственными институтами, типа «соборов»). Так, задолго до большевиков, под руководством православного агитпропа на Руси начинался и первый опыт возведения «египетских пирамид» «Царствия Божия на земле» 87 87 Лазарева А. Н. Интеллигенция и религия. К историческому осмыслению проблематики «Вех». М.: ИФ РАН, 1996. С. 38.
(тотального общественного переустройства в соответствии с заданным «планом» – идеалом).
Но историческое движение к «русскому синтезу» сопровождалось острой идейной борьбой. XV – XVI вв. – время недолгого пробуждения богословской мысли, если не сказать – мысли вообще на Руси, как раз и обусловленное возникшими впервые внутренними проблемами русского церковного сознания. Лидер «заволжских старцев» Нил Сорский (1433 – 1508) и Иосиф Волоцкий (1439 – 1515) – главный творец политической теории московского царства, были не просто лидерами двух идеологических группировок в православии – «нестяжателей» и «иосифлян». Будучи духовными детьми и прямыми продолжателями преподобного Сергия, т.е. вырастая, по сути, из одного духовного источника и вступая в острую полемику, они, таким образом, вскрывали двойственное, глубоко противоречивое и переходное значение русского святого, олицетворявшего собой новый этап в развитии православия. Их спор был спором Руси народной, свободно и бескорыстно принявшей христианство, с одной стороны, и Руси властной, расчетливо и при необходимости – силой, утверждавшей свою религиозность, с другой стороны: Руси, сбросившей «двойное иго», но безвозвратно уходящей в прошлое, и Руси становящейся, вырабатывавшей для себя новое «добровольное иго» национально-религиозного самовластия. Одним словом – православия еще во многом «романтически-идеалистического», переходного (с неясными, хотя и оптимистическими перспективами динамичного развития) и православия «зрелого», государственно укоренившегося (пессимистически ощетинившегося против истории, само движение которой означало разрушение установившегося порядка). Характерно, что и самый миф о «Святой Руси» – Руси трансцендентно-национальной, существующей не иначе, как в форме надприродного идеала – зарождается (с конца XV в.) именно в среде русского пустынножительства и «нестяжательства», которое наиболее фанатичные из «иосифлян» прямо ставили в один ряд с еретиками-жидовствующими. И впервые обосновывается не кем-нибудь, а именно князем Андреем Курбским – первым русским политэмигрантом и оппонентом Ивана Грозного (конец 70-х XVI в.), таким образом (т.е. по святости!) противопоставившим природную Русь («святорусскую землю») самовластию московского государя.
Противники монастырского «стяжания» все еще несли в себе анархически-внегосударственную, «гражданскую» (как сказали бы теперь) энергию русского исторического «антитезиса», отстаивая непротиворечивое соединение природных сил народа и наднациональной, вселенской религиозности (хотя и окрашенной совершенно по-гречески – в мистико-аскетические цвета, но, в отличие от греческого православия, по-евангельски и по-славянски человечной, терпимой). Напротив, иосифляне – сторонники «христианства жестокого, почти садического» 88 88 Бердяев Н. А. Русская идея. Судьба России. М.: ЗАО «СВАРОГ и К», 1997. С. 9.
, по словам Н. А. Бердяева, мыслили это соединение совсем в духе византинизма – в смысле исключительного тождества нации и религии, в смысле государственной религиозности, однако с явно нерасположенным к грекам выводом о вероисповедном приоритете русской национальной церкви в деле вселенского христианского просвещения и, следовательно, исключительном положении русского государства в мировой истории. Таким образом, оба «направления» в русской церкви – каждое по своему – частично противопоставляли себя аутентичному греческому православию, но иосифлянство в большей мере реализовывало главный «тезис» русской истории, а потому ему и суждено было победить. В нем совершалась тенденция, четко обозначившая будущий русский «синтез» – острая национализация церкви и церковного сознания, в византийском духе «обраставших» миром и собственным политическим значением.
Не случайно к концу XV в. (т.е. ко времени освобождения от татар и одновременно с ним) на Руси начинает стремительно распространяться значительное еретическое движение, охватившее самые разные слои русского общества, служившее естественной (хотя и весьма упрощенной) формой внутренней оппозиции вновь обретавшей силу в русской церкви духовно репрессивной исключительности. Ересь отчасти брала на себя ту же функцию, что в первые века христианизации исполняло ушедшее в «партизанское подполье» славянское язычество. Типичная для возрожденческой Европы и занесенная на Русь через свободолюбивых, «удельных» новгородцев, ересь «жидовствующих» представляла собой «джентельменский набор» из полуиудаизма (через ветхозаветные особенности греческого православия подкапывавшегося под христианство вообще), популярного в светских кругах оккультизма, магии, астрологии и новомодного «содомского греха» (очень распространенного в Московской Руси и приписываемого даже митрополиту Зосиме 89 89 Карташев А. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Очерки по истории русской церкви. М.: ТЕРРА, 1992. С. 387.
). Для понимания ереси принципиально важное значение имеет тот факт, что у ереси не было бы ни единого шанса на успех без самого православия, без того идейно-богословского, культурного и морального фона, который создавался на Руси греческим христианством. К числу чисто «местных» предпосылок возникновения ереси следует отнести колоссальную умственную отсталость, безграмотность тогдашнего русского общества – его «малокнижность», начетничество и просто невежество 90 90 Там же. С. 502.
; иначе говоря, веками культивировавшееся в качестве достоинства «истинно православного» неумение рационально мыслить , и как следствие, рационально усвоить себе христианство. Поскольку для борьбы с ересью (как и для церковного самоуправления) не хватало ни теологических познаний, ни опыта самостоятельной мысли, с Афона были вновь (как и в первые века христианизации) специально выписаны ученые греки, среди которых был и выдающийся христианский проповедник, европейски образованный Максим Грек (Триволис), чей недолгий – меньше 4-х лет (1518—1521) – умственный триумф на Руси, в отличие от многих его предшественников, завершился отлучением от церкви и почти тридцатью годами тюремно-монастырского заточения. Греков действительно больше не жаловали на Руси, хотя в них по-прежнему остро нуждались.
Интервал:
Закладка: