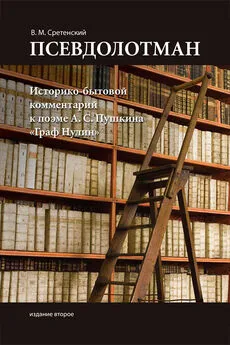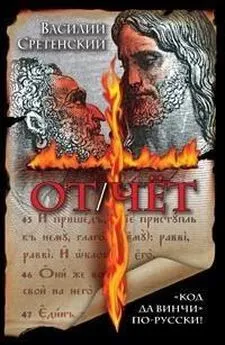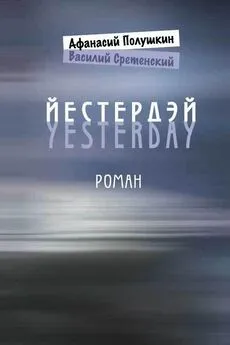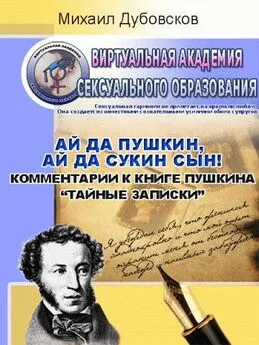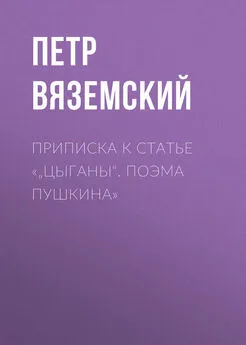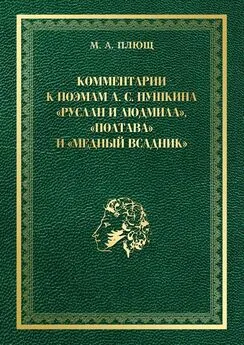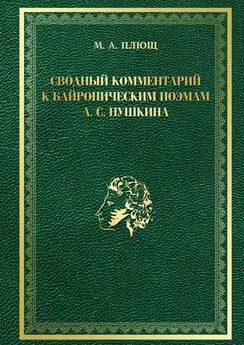Василий Сретенский - Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин»
- Название:Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Издать Книгу»
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Сретенский - Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин» краткое содержание
Издание второе.
Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К сожалению, найти роман, который читала Наталья Павловна, не удалось. Между тем его название настолько типично для сентиментальных романов XVIII века, что напоминает искусно исполненную стилизацию под старинный заголовок. В нем содержится не менее четырех отсылок к разным культурным традициям и стереотипам.
Во-первых, конструкция типа: «любовь такой-то и такого-то» была чрезвычайно распространена во второй половине XVIII века. Из десятков романов с такими заголовками около двадцати было переведено на русский язык. Вот названия только двух: Пьер Бошан «Любовь Исмены и Исмениаса» и Жан Лафонтен «Любовь Псиши и Купидона». Оба романа вышли на русском языке в одном и том же году – 1769.
Во-вторых, в традиции даже не сентиментального, а классического романа XVII века, было давать двойной заголовок, обе части которого соединялись через или. Возьмем почти наугад несколько романов, переведенных на русский – подряд, год за годом:
1789 г. Жан Демаре: «Несчастная любовь, или Приключение Мелентеса и Арианны, одной знаменитой сицилианки»;
1790 г. Жан Жак Бартелеми: «Любовь Кариты и Полидора, или Разные приключения двух великолепных любовников»;
1791 г. Анонимный автор: «Любовь Анделутеда и Уардии, или Несчастные приключения двух судьбою гонимых страстных любовников, через свое постоянство достигших желаемого предмета».
В-третьих, жанр переписки, вошедший в моду в середине XVIII века (но появившийся значительно раньше), стал своего рода «визитной карточкой» нравоучительного романа. Так, из семи романов, в заглавии которых есть имя Элиза или его вариации, опубликованных в последней трети ХVIII века, в четырех использован прием переписки. В 1789 г. на русский язык были переведены и сразу стали популярными «Письма Йорика к Элизе», в которых под именем Йорика, выступал писатель Лоуренс Стерн, автор сентиментальных романов: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие Йорика по Франции и Италии».
Наконец, в-четвертых, имя героини – Элиза – явный и безусловно узнаваемый знак сентиментальной прозы. С этим именем (Элиза, Элоиза, Луиза, а в русской традиции Елиза или Лиза) связана особая культурная традиция, корнями уходящая в европейское средневековье. Начало ей было положено в XII веке в переписке философа и богослова Пьера Абеляра с его возлюбленной семнадцатилетней Элоизой. В ответных письмах Элоизы впервые в европейской литературе соединяются понятия «любовь» и «свобода», в противовес «несвободе» – браку и монастырю. Строки, которые мы приведем ниже, предвосхитили главную тенденцию в развитии европейского романа и опередили время на 400–500 лет:
«Бог свидетель, – пишет Элоиза, – что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я желала иметь тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремлюсь ни к брачному союзу, ни к получению подарков… И хотя наименование супруги представляется мне более священным и прочным, мне всегда было приятней называться твоей подругой, или, если ты не оскорбился, – твоею сожительницей или любовницей» (Абеляр, 67 ).
Шестьсот лет спустя Жан-Жак Руссо написал роман о страсти, служащей извинением нарушению семейных приличий и религиозных догм. Название романа – «Юлия, или Новая Элоиза». Преемственность литературной традиции подчеркивала и избранная Руссо форма романа-переписки. После выхода «Новой Элоизы» имя Элизы-Лизы стало символом любви, разрывающей сеть традиционной морали и светских «приличий» ( Топоров ).
Что же до Натальи Павловны, то ее упорное стремление дочитать роман до конца говорит по крайней мере о двух вещах. Первая: она отчасти отождествляет себя с Элизой – героиней сентиментального романа, и скорее всего видит в семейной жизни препятствие для «подлинной» и «высокой» любви. Вторая: поведение героини во всех последующих сценах будет во многом определяться теми стереотипами, которые намертво утвердились в сентиментальной прозе XVIII века. В частности, ухаживание в ней предполагает длительный процесс, обширную переписку, тайные свидания, долгие беседы, робкое, а затем пылкое, но «в рамках», проявление страсти, борьбу «долга» и «чувств» и т. д.
Ироническое отношение Пушкина к сентиментальной прозе отчетливо видно из его письма к брату Льву, написанному за год до «Графа Нулина», в ноябре 1824 г.: «…читаю "Кларису", мочи нет какая скучная дура!» (X – 110). Имелся в виду один из самых знаменитых романов XVIII века «Клариса, или История молодой леди, показывающая бедствия, проистекающие из непредусмотрительного отношения, как родителей, так и детей к браку». Этот эпистолярный роман Сэмюэля Ричардсона, написанный в 1747–1748 гг., предвосхитил явление сентиментализма и был читаем всю вторую половину XVIII в. В начале XIX в. такие романы (но, прежде всего, «Новая Элоиза») имели беспрекословный авторитет в России. Приведем лишь два свидетельства глубочайшего влияния романа Руссо на умы русских образованных дворян начала XIX века: Первое – от Н.Н. Муравьева-Карского:
«Мне тогда было 16 лет. (…) попалась мне в руки «Новая Элоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогало мое сердце, по природе впечатлительное… Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке» (Муравьев-Карский, 75 ).
Второе – из круга В.А. Жуковского:
«По признанию Андрея Тургенева, ближайшего друга Жуковского, Руссо был как бы наставником молодого поэта. «Новая Элоиза» воспринималась в тургеневском кружке, куда входил и Жуковский, как «code de moral'» во всем – в любви, в добродетели, в должностной, общественной и частной жизни» (Жуковский и литература, 290 ).
Однако появление романтической прозы постепенно оттеснило их на обочину европейской, а к концу 1820-х годов – и российской литературной жизни.
Пред ней открыт четвертый том – упомянутый выше роман Ричардсона «Клариса» вышел в семи томах. «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена» – в девяти. Так что «четвертый том» романа, который читает Наталья Павловна, отнюдь не означает, что он последний.
Роман классический, старинный – все что написано в этом комментарии чуть выше неизбежно должно нас привести к выводу, что роман, читаемый Натальей Павловной написан во Франции или Англии между 40-ми и 60-ми годами XVIII века и переведен на русский язык не позднее 90-х годов того же века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: