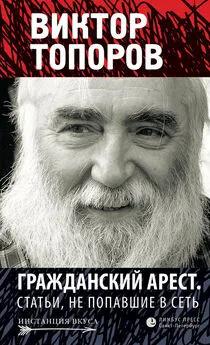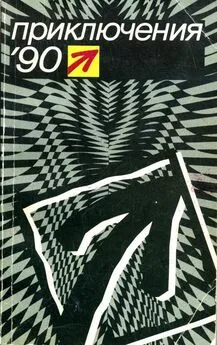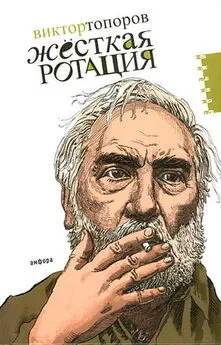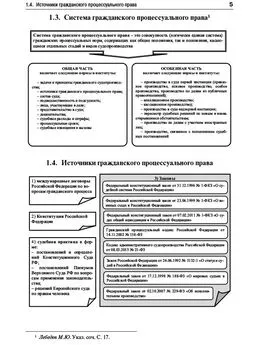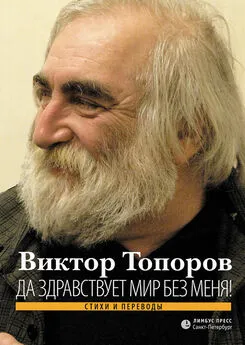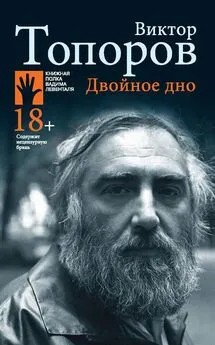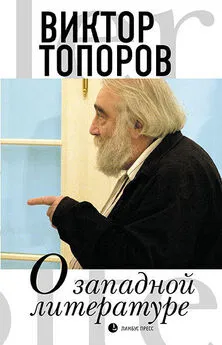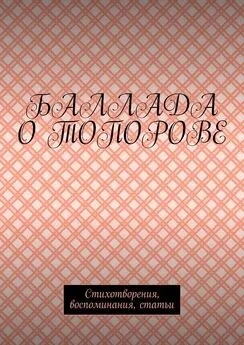Виктор Топоров - Гражданский арест. Статьи, не попавшие в Сеть (сборник)
- Название:Гражданский арест. Статьи, не попавшие в Сеть (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0653-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Топоров - Гражданский арест. Статьи, не попавшие в Сеть (сборник) краткое содержание
Гражданский арест. Статьи, не попавшие в Сеть (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Великая французская революция прошла под ложными, взаимоисключающими лозунгами свободы, равенства и братства. Свобода исключает равенство, а равенство – свободу, а уж братством-то не пахнет в обоих случаях. Западная цивилизация пошла по пути имитации свободы и имитации равенства (время от времени давая крен то в одну, то в другую сторону: за свободу агитируют либералы, за равенство – социал-демократы) и, в общем-то, преуспела . При этом необходимо учесть, что Великая французская, как и другие буржуазные революции, на первом этапе примиряла свободу и равенство (понятия, повторю, антагонистические) в порыве к освобождению: освобождаясь от сословного гнета, люди тем самым как бы обретали равенство. Тот же эффект с поправкой на местную экзотику был присущ и национально-освободительным революциям XX века: изгоняя колонизаторов, аборигены освобождались от них и становились как бы равны. Революция 1917 года в нашей стране опиралась на идею тройного освобождения – национального (для нерусских народов), сословного и классового. Классовое освобождение – то есть изменение формы собственности и ликвидация эксплуатации человека человеком – было при этом лозунгом заведомо демагогическим.
Эксплуатация человека человеком понималась Марксом и Энгельсом как категория политэкономическая: эксплуатируемый вынужден работать под страхом смерти или под страхом голодной смерти (внеэкономическое и экономическое принуждение соответственно). Но эксплуатация человека человеком – это философская универсалия: ребенок сосет материнскую грудь, взрослые заботятся о стариках (или поедают их), народ кормит армию, монарх раскрывает государственные закрома и т. д. То, что обычно понимается как разделение труда, фактически распадается на парные действия, причем в каждой из пар можно выделить эксплуататора и эксплуатируемого. И все эти пары разбиваются на два класса: сильный эксплуатирует слабого или слабый – сильного. Второй класс не очевиден, мы склонны априорно предоставлять роль эксплуататора сильному; на деле же чаще бывает наоборот. Во всяком случае, всемирная история развивается сразу по двум направлениям: нарастающая эксплуатация странами «золотого миллиарда» остального человечества (сильные эксплуатируют слабых) и социал-демократизация самих стран Запада под лозунгом так называемого социального общества (то есть эксплуатация сильных слабыми). Сильных слабые эксплуатировали и в нашей стране в советское время: один старательный работник трудился за пятерых лентяев, получая одинаковую с ними зарплату, чтобы не ходить далеко за примером. Связанное с этой «уравниловкой» отсутствие безработицы – пример еще более впечатляющий. Равнение на отстающих в школе. Массовое производство в ущерб эксклюзивному… Ельцинская революция перевернула эту парадигму, разорвав в одностороннем порядке контракт государства с обществом, она обездолила слабых и предоставила сильным практически безграничные возможности их эксплуатировать: от наемных работников до участников и жертв финансовых «пирамид», от разгула и безнаказанности криминалитета и чиновничества (знать бы, где проходит грань между ними) до перевода научно-технической интеллигенции, офицерства, учителей, врачей и т. д. в «опущенное» состояние; раскрытые границы предоставили сильным возможность путешествовать по свету, цена на билеты лишила слабых возможности проведать живущих в другом городе родных, вспомним также товарное изобилие и все, с ним связанное… Парадокс заключался в том, что как раз эту разбойничью революцию активнее других поддерживала закабаляемая и «опускаемая» интеллигенция – так называемая демшиза, тогда как противостояли ей – до поры до времени, пока не научились извлекать удовольствие из сложившейся ситуации – сильные, удачливые, энергичные люди с членскими билетами КПСС в кармане. По сути дела, обманывались – и обманывались жестоко, не понимая собственной выгоды, – и те и другие. А когда начали прозревать, то почувствовали, что заигрались, и, упорствуя в своих заблуждениях, попытались сохранить лицо . Еще на думских выборах 1993 года бросался в глаза занятный феномен: люди, поверившие было Ельцину, а затем и Гайдару и безбожно облапошенные ими, не спешили голосовать за воспрявшую и объективно защищавшую на тот момент их интересы КПРФ, ведь это означало бы расписаться в собственном поражении. Нет, разуверившись в Гайдаре, они голосовали «вбок» – кто за Явлинского, кто за Жириновского, которые и вовсе ничего, кроме любви к собственным персонам, предложить не могли.
Отсюда и изначальная путаница с «правыми» и «левыми» взглядами (а также с «правыми» и «левыми» партиями, хотя о партиях у нас можно говорить лишь условно): во всем мире правые консервативны, тогда как левые стремятся к более или менее радикальным переменам; у нас радикальную (и убийственную для большей части общества) реформу навязали обществу люди правых (либеральных) взглядов, действуя при этом «большевистскими» методами. В частности, сравнение с большевиком пламенного реформатора Чубайса стало уже банальностью. Ситуация приобрела характер горького парадокса: действуя в интересах «сильных» и вопреки интересам «слабых», реформаторы не могли рассчитывать на электоральную поддержку большинства населения. И поскольку либеральные реформы невозможно было провести демократическими средствами, реформаторы начали уповать на русского Пиночета, отведя эту роль сперва беспомощному «отцу» коррумпированной «семьи», а потом – монархически назначенному «преемнику». Конечно, удалось им это лишь в отсутствие реального (а не имитированного) противодействия со стороны политической оппозиции… Следует отметить, что и собственно демократы, иначе говоря – демшиза, решительно разойдясь с либерал-реформаторами в этом вопросе, не проявили хоть какой-нибудь принципиальности: запуганные – или позволившие запугать себя – коммунистической угрозой, они голосовали по порочному принципу «меньшего зла» и теряли последние шансы на мало-мальскую поддержку со стороны общества.
У либерал-реформаторов была поддержка Ельцина (и остается поддержка Путина, правда, уже далеко не однозначная), деньги и СМИ, прежде всего электронные. С какого-то момента они взяли на вооружение и тактику перехвата лозунгов оппозиции (прежде всего в патриотической чести спектра), и, если бы не внутренние раздоры, связанные с переделом уже выведенной из общественного оборота собственности (дело Союза писателей и т. п.), им, возможно, удалось бы навязать обществу однозначно «своего» президента – того же Чубайса или, не исключено, Немцова. Раскол же в среде самих либералов привел к тому, что объединились – и чуть было не взяли верх в стране – центристы, а конечная победа досталась спецслужбам с их весьма специфической психологией, не говоря уже о стратегии, и силовикам, почувствовавшим теперь не столько свою силу, сколько бессилие всех остальных. Либералы получили в итоге Кудрина в Минфине, Грефа – в Минэкономики, Березовского и Гусинского в вынужденной эмиграции и тревожные перспективы на будущее (собственное в том числе, потому что спросят-то с них). Вот-вот позвонят в дверь и спросят: «Драку заказывали?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: