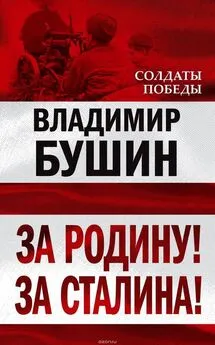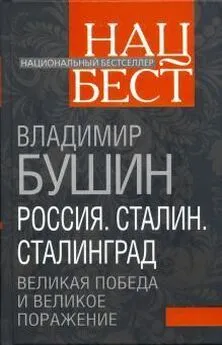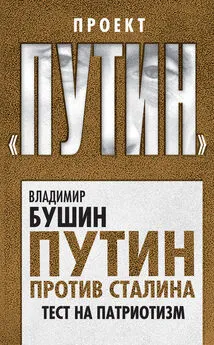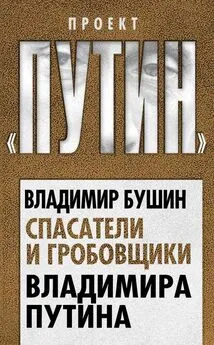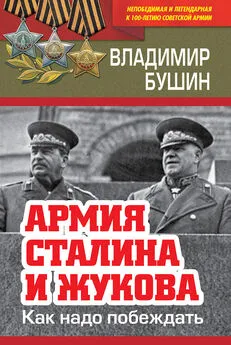Владимир Бушин - За Родину! За Сталина!
- Название:За Родину! За Сталина!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6994-0634-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бушин - За Родину! За Сталина! краткое содержание
И сегодня Бушин, как прежде, на передовой. Его публицистика исполнена патриотического пафоса, а перо его можно приравнять к штыку. Правдоискатель, он не обходит стороной такие факты, как мародерство и насилие во время войны, наветы на Сталина и Жукова, мнимые и подлинные подвиги… Эта книга – ответ клеветникам, оболгавшим заслуги народа Победы, ее солдат и полководцев.
За Родину! За Сталина! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Читатель может подумать, что все «четыре года» Солженицын служил в пехоте. Действительно, кто же еще бросается в атаку из траншеи или окопа. Но нет, он этого не утверждает, а говорит о себе так: «всю войну провоевавший командир батареи». Остается предположить, что в траншеях, в рядах пехоты командир-артиллерист оказывался лишь время от времени.
Многие читатели и даже сердцеведы-художники, например, Лидия Чуковская, Георгий Владимов, потом Говорухин, Распутин и другие, всему этому свято верили, как речам равноапостольного пророка. Но через несколько лет выискались антипатриотически настроенные исследователи, нагло заявившие: «Мы по архивам обшарили весь 41-й год, все штабы и фронты Отечественной войны, но лейтенанта Солженицына А. И. там не обнаружили». Позже нашлись еще более бесстыдные антипатриоты, объявившие с ухмылкой: «И в 42-м году мы его на фронте не зрим». Что такое? Конфуз! А он к этому времени уже бороду под Достоевского отпустил. Ну, вылитый классик! И вдруг – неуважение к истине, бахвальство. Как быть? Делать нечего, Александр Исаевич поднатужился и в автобиографии для Нобелевского комитета скрепя сердце уточнил: «С начала войны я попал ездовым обоза и в нем провел зиму 1941/42 года». Что ж, молодец, мужественно признался: не четыре, а меньше трех.
Но антипатриоты опять загалдели: «Во-первых, был он не ездовым. Тут необходимо умение обращаться с лошадьми, – а откуда оно у маменькиного сынка, только что окончившего университет. Был он конюхом, точнее, подсобным рабочим на конюшне: задавал лошадям корм да убирал навоз, о чем и жаловался в письмах жене. Во-вторых, обоз, в котором он служил подсобником, не снаряды возил на фронт, не раненых с фронта под бомбежками и обстрелом, а совсем другое, притом – в Приволжском военном округе, бывшем упомянутой зимой глубоким тылом. В-третьих, все-таки с самого ли начала войны оказался Солженицын в армии?»
Александр Исаевич, как видим, настаивает, что с самого. И в брошюре «Сквозь чад», обращаясь к другу юности К. Си-моняну, писал: «Началась война – я зашел к тебе попрощаться… Я горел: как могу не успеть защитить ленинизм». Впечатление такое, словно это было если не 22-го, то уж наверняка 25 июня 41-го года. А между тем, свидетельствуют злобные антипатриоты, хотя Александр Исаевич и горел синим огнем нетерпения, но в добровольцы защищать ленинизм не побежал, а уехал из Ростова в Морозовск преподавать в школе астрономию, и там, любуясь по ночам на звезды, дожидался, когда призовут. И случилось это 18 октября 41-го года, то есть лишь через четыре месяца после начала войны, когда многие его сверстники не за ленинизм именно, а за родину уже сложили головы. Солженицын же, инкубаторское дитя голой идеи, с этого времени и начал защищать ленинизм, но не с винтовкой или пушкой, а с лопатой, метлой, вилами и другими орудиями обозника.
Отрицать это он теперь не решается, но говорит, что из тылового обоза его направили в артиллерийское училище, которое окончил «к ноябрю 42-го года», и был назначен командиром батареи. И вот уж «с этого момента провоевал, не уходя с передовой, до ареста в феврале 1945 года», случившегося, как помним, по божьему промыслу. Что ж, похвально – под напором антипатриотов мужественно признался наконец, что воевал не с самого начала, не четыре и не три года, а лишь с ноября 42-го, то есть раза в два меньше, чем объявил по ошибке с лёту. Но уж зато, говорит, все время на передовой, ни на миг не отлучаясь. То, мол, у орудий, то в траншее.
Но тут снова – вот ведь публика! – вылезли антипатриоты: «Ни в ноябре и декабре 42-го, ни в январе, феврале, марте и апреле 43-го никаких следов пребывания на фронте лейтенанта Солженицына А. И. не обнаружено. Только в мае найден неглубокий след его сапог, который в дальнейшем переплетается со следами явно женских сапожек. Выходит, что двух самых страшных лет войны, как, впрочем, и трех самых упорных последних ее месяцев, Солженицын не видел». Вот так да! Опять скандал! А у него борода уже под Толстого. Ни дать ни взять живой классик, а такое мелкое вранье даже в месяцах…
Но, может быть, даже меньше двух лет без отлучки на передовой командиром батареи стоят четырех лет в пехоте? Сколько пушек было у Солженицына? Какого калибра? Какого назначения? И опять раздается голос неугомонных антипатриотов: «Во-первых, он дважды отлучался со своей «передовой» в отпуск, последний раз в марте 44-го, не пробыв на фронте и года. Миллионам это ни разу не удавалось за всю войну. Во-вторых, в его батарее, в отличие, допустим, от батареи подпоручика Толстого на Четвертом бастионе Севастополя, не было никаких пушек. Ни единой. Дело в том, что Александр Исаевич командовал батареей звуковой разведки, и ему не приходилось не только с боевым кличем «За Родину! За Сталина!» сигать из траншеи, но и давать команду «Огонь!». Он «всю войну» имел дело только с приборами да инструментами. И, наконец, последнее: за все время его пребывания на фронте фактов посещения им передовой хотя бы из любопытства не зафиксировано».
Мы сперва просто не хотели этому верить. Ну как же так? Толстой, Достоевский… А тут еще впечатлительный еврей Бернард Левин из Лондона, кажется, возгласил на всю Европу: «Когда смотришь на Солженицына, то сразу понимаешь, что такое святая Русь». И вот это живое воплощение и русской классики, и святой Руси брешет?.. Нет, это невозможно!
Но все те же богомерзкие антипатриоты шепнули нам: «Да что же это за передовая, что за траншея, что за банка тушенки на восьмерых, если Солженицын не раз приглашал туда погостить своего школьного товарища?» И вот, рассказывает со слов гостя тогдашняя жена офицера-окопника, «живет Кока у Сани, как на курорте, лежит в тени деревьев, слушает птиц, потягивает чаёк да курит папиросы». Словом, как говаривали на фронте, кому война, а кому фуевина одна. Позже по фальшивым документам, раздобытым ей мужем, в незаконном обмундировании она и сама в сопровождении ординарца мужа прикатила из Ростова к нему в траншею и жила там под снарядами и бомбами до тех пор, пока командир дивизиона не потребовал ее удаления.
«А чем Александр Исаевич занимался до приезда молодой жены и после ее отъезда? – продолжали антипатриоты, скрежеща зубами. – Напряженнейшим литературным трудом». Пишет один за другим рассказы, начинает повесть, обдумывает серию романов «Люби революцию» и мечет свои сочинения из окопа в Москву: одно – Константину Федину, другое – Борису Лавреневу, третье – известному тогда литературоведу Леониду Ивановичу Тимофееву. И, конечно, много читает, притом не только классику («Жизнь Матвея Кожемякина», например), но и следит за журнальными новинками, жаждет откликнуться на них. Так, совсем было собрался послать «приветственное письмо» А. Крону по поводу его пьесы «Глубокая разведка» в сентябрьской книжке «Нового мира» за 43-й год, да, видно, не смог оторваться от рукописи собственного романа. По прочтении «Василия Теркина» сообщил жене: «Как-нибудь черкну Твардовскому одобрительное письмо». Остается невыясненным, сподобился ли Александр Трифонович этой чести.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: