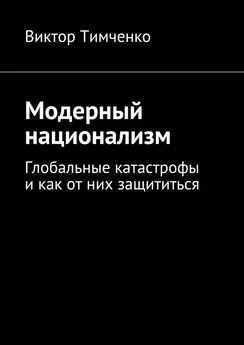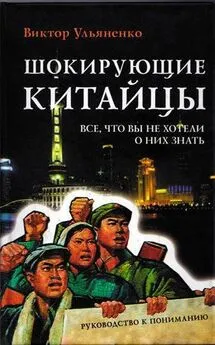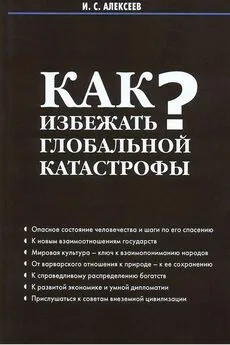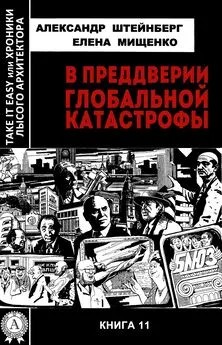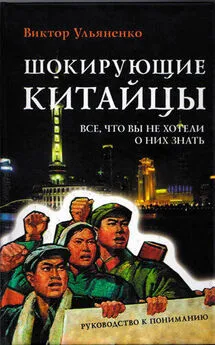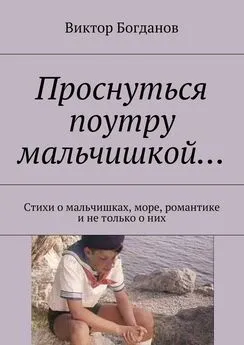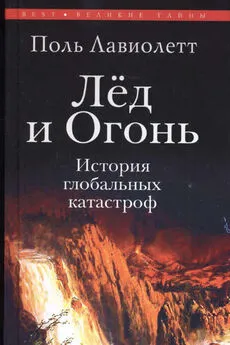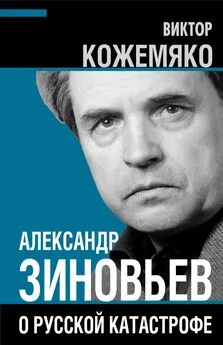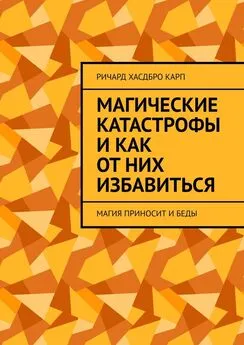Виктор Тимченко - Модерный национализм. Глобальные катастрофы и как от них защититься
- Название:Модерный национализм. Глобальные катастрофы и как от них защититься
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448519635
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Тимченко - Модерный национализм. Глобальные катастрофы и как от них защититься краткое содержание
Модерный национализм. Глобальные катастрофы и как от них защититься - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О каком же стержне, вокруг которого консолидируется нация, мы говорим? Что же такое язык, а что такое только диалект?
Во Франции временем рождения нации считается Великая французская революция. В 1789 году революционерами была принята «Декларация прав человека и гражданина», провозглашавшая, что «источником суверенной власти является нация; никакие учреждения, ни одно лицо не могут обладать властью, которая прямо не исходит от нации». Эта декларация была написана на языке, который не понимала основная масса населения страны. Если на севере Луары, за исключением Бретани и Фландрии, большинство могло её прочесть, то на юге её не понимал почти никто. Когда Декларация была опубликована, лишь незначительная часть жителей территории, которую мы называем Францией, считала себя французами. Тогда не было ещё ни общего языка, ни нации как таковой, но её именем уже провозглашался суверенитет. В чём дело?
А дело в том, что процессы рождения нации и выделения речи из множества диалектов, признание какого-то диалекта языком, к тому же официальным, главным языком страны – процесс не одного дня. Как вокруг рождения нации, так и вокруг рождения государственного языка всегда велись и по сей день ведутся сложные споры – в которых лингвисты играют лишь незначительную, заштатную роль. В вопросе о первичности нации или языка можно быть уверенным лишь в одном: рождение нации и рождение общего для этой нации языка происходит одновременно, параллельно – здесь нет ни первых, ни последних.
Выбор официального языка – всегда политическое решение. Во Франции после провозглашения высокопарной Декларации, о которой мы упомянули, права на свой язык были лишены, например, бретонцы – они должны были учиться разговаривать на северофранцузском диалекте, возведённом в ранг официального языка. А как иначе можно было создать общий язык? Есть свидетельства современников, которые утверждали, что в те времена один «француз» часто не понимал другого «француза», жившего «на расстоянии семи-восьми лье» – по-современному, за полсотни километров.
С другой стороны – где предел понятности языка? Какой объём понимания является истинным пониманием? Где в поле понимания проходит граница между пониманием и непониманием? Тем более что датчане, норвежцы и шведы – отдельные языки! – понимают друг друга, а некоторые немцы (баварцы, платтдойче…), если будут говорить исключительно на диалектах, никогда не поймут друг друга.
Когда голландцы получили политическую независимость, то одна из разновидностей нижнефранконского диалекта немецкого языка, на котором они говорили, стала отдельным языком. Все остальные языковые формы остались диалектами.
Характерен пример Норвегии. На протяжении веков здесь письменным языком был датский. Во время борьбы норвежцев за независимость от датского господства шла борьба и за «свой» язык. Независимая Норвегия первым делом письменно закрепила отличия местного говора от литературного датского. Сейчас лингвисты считают датский и норвежский разными языками – не по филологическим, а по политическим соображениям.
Язык всегда был игрушкой политиков. Часто для диалекта, который только стремится стать языком, чтобы отделить его от основного официального языка, принималась особая орфография, за счёт заимствований расширялась лексика. Так, различная орфография принята в близкородственных сербском и хорватском языках, а также в хинди (Индия) и урду (Пакистан). Во время «украинизации» Украины в 20-х годах прошлого века (проходившей под девизом «Прочь от Москвы!») из украинской лексики удалялись русские слова, которые заменялись чаще всего польскими или чешскими. Такой подход был признан большевиками «националистическим», и уже грамматика 1933 года снова «приблизила» украинский язык к русскому.
И наоборот: если есть на то политическая воля, то язык может официально объявляться диалектом – такое происходило часто там, где господствующая нация не хотела дать «языковой козырь» националистам. В XIX веке в школах Великобритании были запрещены валлийский (речь жителей Уэльса) и шотландский языки. Подавление языков меньшинств продолжается и в XXI веке: турки, например, запрещают курдский язык «как несуществующий», а самих курдов называют «горными турками», которые якобы забыли свой родной – турецкий! – язык.
В 20-х годах ХХ века в СССР молдавский язык, который считается специалистами идентичным румынскому, был переведён из политических соображений с (румынской) латыни на (распространённую в СССР) кириллицу. После провозглашения независимости Молдовы латинская графика была возвращена. Однако этот язык, теперь практически не отличающийся от румынского, продолжает называться молдавским. На территории автономной Приднестровской Молдавской республики государственным языком является также молдавский – но с кирилличной графикой.
Поэтому, как говорит один из исследователей этого вопроса, американский лингвист Эйнар Хауген ( Einar Ingvald Haugen, 1906 – 1994), «диалектом часто бывает язык, которому не удалось достичь политического успеха». Так пьемонтский язык стал «диалектом» после того, как официальным итальянским был признан тосканский говор.
Проще: есть государство – есть язык, нет государства – диалект.
Есть и другая группа вопросов. За многовековую историю границы стран менялись тысячи раз. Политическая карта мира перекраивалась после каждой войны. Одни государства, такие как Польша, несколько раз меняли свои форму, размер и даже местоположение, другие страны исчезали или же появлялись. Жители приграничных регионов часто переходили из одной страны в другую, жили там веками, говорили на другом языке.
Следовательно, главный вопрос заключается не в (часто псевдо-) научных спорах вокруг языка, а в том, какую роль он должен играть в национальном движении. Этот вопрос мы рассмотрим в разделе о противниках и союзниках националистов в их борьбе.
Чем освободительное движение отличается от сепаратизма
Сейчас, в XXI веке, национальных движений теоретически быть не должно. Потому что борьба за те или иные ценности предполагает, что существуют некие препятствия к достижению этих целей. Если таких препятствий нет, так и бороться нет необходимости. Зачем стремиться сорвать яблоки высоко на дереве, если вот они, райские, лежат передо мной на большом блюде?
Похожа ситуация с яблоками и на вопрос о национальном самоопределении. С конца позапрошлого века в научных и политических кругах появляется тезис о праве каждой нации жить так, как ей заблагорассудится, как решит сам народ. И если один народ хочет жить отдельно от другого – то скатертью дорога. Конечно, теоретики не говорили только об отделении одной нации от другой. Самоопределение предусматривало как создание своего суверенного государства, так и значительную палитру других вариантов: культурное обособление, самоуправление, федерацию – или, если такова воля народа, дальнейшее совместное проживание в рамках единого государства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: