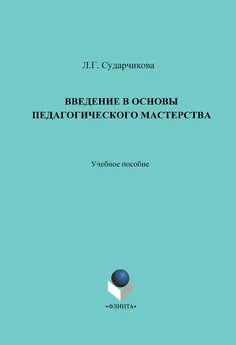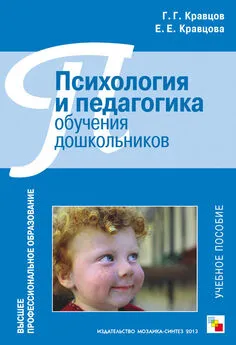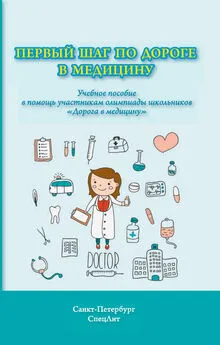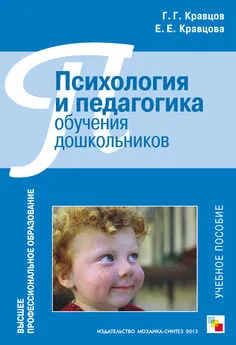Ирина Сосновская - Введение в методику обучения литературе: учебное пособие
- Название:Введение в методику обучения литературе: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Флинта»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1034-0, 978-5-02-037345-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Сосновская - Введение в методику обучения литературе: учебное пособие краткое содержание
Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам-специалистам и студентам-бакалаврам (специальность 050301.65 – «Русский язык и литература»; направление подготовки 050300.62 – бакалавр филологического образования); также оно может быть использовано при работе по новым стандартам ФГОС ВПО «Педагогическое образование».
Раздел «Введение» и лекции 1–7, 10 написаны Е.С. Романичевой, лекции 8–9 И. В. Сосновской.
Введение в методику обучения литературе: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Со временем в каждую книгу вкрапляются все те толкования, которые мы в нее привносим.
У. ЭкоКлючевые слова:
интерпретация, виды интерпретаций, анализ и интерпретация, адекватность интерпретации, границы «допустимого» в интерпретации,
В последние годы в поле зрения современной методической науки попадают проблемы, имеющие междисциплинарный характер: чтение – восприятие – понимание – интерпретация.
В литературоведении под термином интерпретация понимают истолкование текста, направленное на понимание его смысла. Литературоведение также разграничивает понятия анализ и интерпретация, трактуя анализ как разбор, а интерпретацию как истолкование, т. е. некий результат разбора. «Анализ, – пишет современный исследователь, – обращен преимущественно к формальной стороне произведения, интерпретация – к его содержанию» [см. подробнее: 105]. Каждая интерпретация, по мысли М.Л. Гаспарова, есть гипотеза, а сравнительная предпочтительность той или иной определяется двумя критериями, общими для всех наук: из двух гипотез лучше та, которая объясняет больше фактов и делает это более простым образом.
Первые опыты создания теории интерпретации связаны с возникновением герменевтики. В русском литературоведении самостоятельную терминологическую определенность и методологическую осознанность интерпретация обрела в 70-е годы прошлого столетия, когда вслед за М.М. Бахтиным стали говорить о диалогическом понимании произведения, тексте как диалоге автора-творца и читателя-интерпретатора. Активность последнего, по Бахтину, предполагает не абстрактно-научное описание текста как деперсонализированной и формализованной конструкции, а личностную духовную встречу автора и воспринимающего.
Особый «толчок» к развитию теории интерпретации в литературоведении дает метод историко-функциональных исследований, когда предметом исследования становится не только текст, а его восприятие читателями разных социальных групп и эпох.
Постепенно термином интерпретация в современной науке стал обозначаться особый вид познавательной деятельности по переводу ранее имевшихся «смыслов» на иной язык: их воплощение в новой системе средств. Попробуем задуматься над тем, что стоит за этим определением.
Будем исходить из того, что перевод – не просто способ перекодировки информации (допустим, с одного языка на другой), а новый взгляд на предмет. Именно этим можно объяснить, например, существование нескольких переводов одного и того же стихотворения, изменения грамматических форм слова при переводе: классический пример – «Утес» М.Ю. Лермонтова и проч. В свое время В. Гумбольдт заметил, что разные языки – «отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее». А это значит, что перевод текста на другой язык (в том числе и язык живописи и музыки) – это расширение границ его восприятия и углубление понимания.
М.Л. Гаспаров, развивая мысль своих коллег, предшественников (Г.О. Винокура) и современников (Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева), о филологии как службе понимания и филологии как воплощении философской методологии диалога (М.М. Бахтин), дал развернутое обоснование своей концепции филологии как «изучения чужих языков»: «А я привык думать, что филология – это служба общения <���…> мне всегда казалось, что послебахтинские рассуждения о диалогичности всего на свете – это непростительный оптимизм. Нет диалога, есть два нашинкованных и перетасованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. [На полях: Что такое диалог? Допрос. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, что кого-то (что-то) познал.] Максимум достижимого – это учиться языку собеседника; а он такой же чужой и трудный, как горациевский или китайский» [19: 409–410]. Современный философ Н.С. Автономова так комментирует мысль своего учителя: «По сути, это спор даже не с Бахтиным и его позицией, но прежде всего – с нашей рецепцией Бахтина, которая из поиска понимания стала догмой и навязывает нам концепцию Бахтина как методологический образец для гуманитарных наук <���…> М.Л. по той или иной причине не ведет свое рассуждение дальше. Быть может – потому, что теоретически продолжение представлялось ему само собой разумеющимся, а практически оно осуществлялось им в течение всей жизни. Однако мне представляется необходимым четко обозначить следующий шаг: это – перевод. Учить языки нужно для того, чтобы переводить – тексты или любые другие высказывания. Именно перевод (а не просто выучивание чужих языков) является необходимым условием диалога и понимания: без перевода диалог неосуществим» [19: 411]. Таким образом, филологию можно трактовать как «службу понимания», рожденного в диалоге, и «службу перевода».
К сказанному необходимо добавить: в последнее время филология – это еще «средство защиты от смысловых искажений, а следовательно, от манипуляций сознанием и от плоской идеологизации идей. Идеологизация становится возможной именно там, где не срабатывает филологическая защита, где возникает либо ложное осовременивание, модернизация смыслов, либо намеренная архаизация сегодняшних представлений, возведение их к заведомо авторитетному источнику, оправдывающему авторитарные и отнюдь не теоретические последствия научных теорий и гипотез» [101: 40]. Попутно заметим, что модернизация художественного произведения (в первую очередь – классического) обычно сводится к выборке тем, идей, проблем, соответствующих «горячим точкам» нашего бытия или еще более утилитарным задачам. Модернизацию смыслов необходимо отличать от их актуализации, т. е. выявления современного смысла, осуществляемого на основе общечеловеческих ценностей. Опираясь на общечеловеческое в тексте, актуализация ведет не к злободневности, но к современности.
Казалось бы, сказанное не имеет никакого отношения к школьному литературному образованию. Но это только на первый взгляд. Получая литературное образование, ученики осваивают язык литературы, язык культурных традиций и этических ценностей, язык вымысла и жизненной правды, язык автора и его героя, писательского замысла и читательского понимания, осваивают… в процессе перевода на язык собственных смыслов. Ведь полученное литературное образование – это не сумма прочитанных произведений и знаний о них, а способность и потребность выстроить собственные отношения с текстом на базе полученных знаний. А выстраивание собственных отношений возможно только в процессе интерпретационной деятельности. Под последней мы будем понимать «активное взаимодействие личности субъекта с личностью автора посредством текста с целью его (текста) понимания и истолкования. Интерпретационная деятельность представляет собой работу, труд читателя, направленный на осмысление собственного понимания» [89: 8]. Любая интерпретационная деятельность основывается на оценочном отношении к искусству: потребность уяснить смысл произведения возникает потому, что оно вызвало определенную эстетическую реакцию. Интерпретация синтезирует миросозерцательно-эстетическое восприятие и интеллектуальное понимание, заставляет обращаться не только к тексту, но и внетекстовым связям, она непосредственно вырастает из недр живого читательского восприятия, поэтому вопреки распространенному мнению интерпретация не является чем-то приходящим в культуру извне, а составляет ее неотъемлемую часть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: