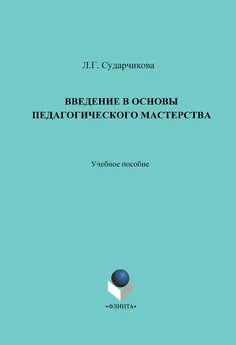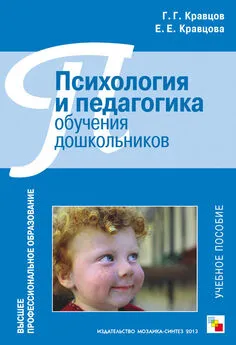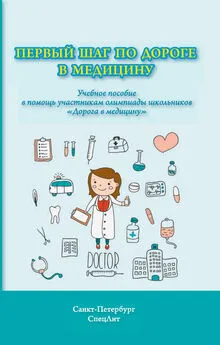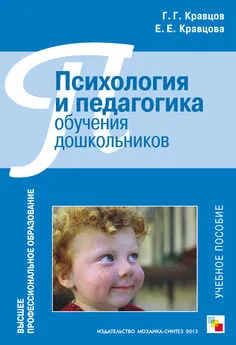Ирина Сосновская - Введение в методику обучения литературе: учебное пособие
- Название:Введение в методику обучения литературе: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Флинта»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1034-0, 978-5-02-037345-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Сосновская - Введение в методику обучения литературе: учебное пособие краткое содержание
Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам-специалистам и студентам-бакалаврам (специальность 050301.65 – «Русский язык и литература»; направление подготовки 050300.62 – бакалавр филологического образования); также оно может быть использовано при работе по новым стандартам ФГОС ВПО «Педагогическое образование».
Раздел «Введение» и лекции 1–7, 10 написаны Е.С. Романичевой, лекции 8–9 И. В. Сосновской.
Введение в методику обучения литературе: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Идеи Г. Ионина нашли свое развитие в одной из программных статей В.Г. Маранцмана «Цели и структура курса литературы в школе» (2003). Последовательно оценивая классификацию Г.И. Ионина в целом и характеризуя на основе выдвинутого им критерия объективности/субъективности каждый из видов интерпретации, методист говорит о необходимости расширения классификации и дополнения ее читательской интерпретацией, ибо она и есть цель школьного анализа. Таким образом, можно сказать, что, в отличие от восприятия, читательская интерпретация – это вторичные интеллектуальные начала овладения произведением. Исследователь пишет: «Интерпретация – понятие широкое, поэтому полезно условиться о разграничении задач и характера научной, критической, художественной и читательской интерпретаций. <���…> Научная интерпретация художественного текста при всем своем разнообразии литературоведческих подходов к его изучению призвана объективно и законченно, целостно истолковать смысл произведения и мотивировать его историческими обстоятельствами, национальным менталитетом, художественным окружением и индивидуальной особенностью писателя. Эта идеальная задача всегда трудна в осуществлении, и метания отечественных литературоведов от вульгарного социологизма к религиозному фанатизму подтверждает далекость от идеала объективности столь же откровенно, как эссеистский характер работ европейских филологов. <���…> Школьное литературное образование не претендует на подготовку литературоведов, литературных критиков и деятелей искусства, но знакомит учеников с научными, литературно-критическими и художественными интерпретациями произведений словесного искусства. Эти интерпретации в школьном образовании играют роль ориентиров, помогают созданию установки на чтение и анализ текста, содействуют возникновению проблемных ситуаций» [83: 22, 23]. Таким образом, художественный текст, имеющий свою историю понимания, перевода, перевоплощения, создает вокруг себя поле интерпретаций, каждую из которых нужно попытаться понять. Подчеркнем: каждую нужно понять… То есть интерпретировать. А для этого – знать хотя бы основы языка, на котором она сделана. Языка живописи, кино, музыки… Сложность в том, что этим не всегда в полной мере владеет и сам учитель. Важно и то, какие из множества существующих интерпретаций выберет учитель, что окажется нужнее и полезнее для достижения его главной цели на этом уроке и в этом классе, как не переусердствовать и не перегрузить урок, как не заслонить текст. Только если мы справимся со всеми названными задачами, в этом поле сможет возникнуть та единственная и неповторимая читательская интерпретация, творимая каждым учеником, к которой и стремится на уроке учитель литературы.
Однако здесь возникает еще одна методическая проблема. Если мы принимаем тот факт, что читательская интерпретация – это перевод произведения на язык своего «Я», то «как я, учитель, могу судить о том, что эта интерпретация возникла и какова она? Как я могу судить о ней и – что тоже, вроде бы, входит в мои обязанности – оценить ее? Каждый из нас постоянно предлагает ученикам задания интерпретационного характера, которые должны выявить их понимание текста. Конечно, самый популярный жанр в старших классах – это традиционное сочинение, балансирующее на грани научной и критической интерпретации. Но, как показывает опыт, гораздо продуктивнее могут оказаться те виды работы, аналогичные художественной интерпретации текста, которые более часто встречаются в среднем звене: словесное рисование и иллюстрирование, написание киносценария, литературное творчество, подбор или описание музыки и т. п. Однако здесь перед учителем возникает новая проблема: понять и оценить ученическую работу художественного характера значительно сложнее, чем школьный аналог научной и критической интерпретации (сочинение-рассуждение, ответ на вопрос, рецензию, отзыв)» [119].
Вступивший в полемику старейший методист Г.И. Беленький не только подверг критике критерии различения интерпретаций («критерием различения этих интерпретаций он (В.Г. Маранцман. – Е.Р .) выдвигает степень, меру присутствия в истолковании личностного, субъективного момента интерпретатора [8: 28]), но и отметил, что «нет стены между различными видами интерпретаций», что «любая интерпретация представляет известную ценность, если не порывает напрочь с разбираемым произведением, не навязывает автору то, чего в произведении нет, то есть не отличается крайним субъективизмом» [8: 28]. Развивая эту мысль дальше, ученый отметил, что «современная наука не дает твердых и безусловных критериев истинности и объективности интерпретации» [8: 28], и таким образом отметил еще одну проблему, которая может быть обозначена как граница допустимого в истолковании текста читателем-школьником. По мысли современного методиста-психолога С.А. Шаповал, она «является самой сложной во всем корпусе проблем литературного образования. <���…>
Любой автор, исследующий проблему понимания, обязательно констатирует, что “одному и тому же тексту может соответствовать множество пониманий или семантических моделей” (Гинецинский) и что “существование различных вариантов понимания одних и тех же текстов является очевидным фактом” (Выготский). Постулат множественности семантического описания принадлежит к числу основных постулатов когнитивной семантики; об этом же говорят сторонники герменевтического метода, который сам по себе отличается тем, что “множественность истины” является не недостатком, а сущностным его признаком и “принципиально неустранима” (Дружинин)» [131: 86]. Проанализировав современное состояние обозначенной проблемы, С.А. Шаповал пришла к выводу, что, «если принципиальное теоретическое решение проблемы выглядит достаточно убедительным, то на практике, в отношении каждой конкретной трактовки каждого конкретного произведения, проблема ее “правильности” или, напротив, “недопустимости” встает заново» и выделила несколько причин такого положения:
1. Текст является открытой, незамкнутой системой, и по этой логике стихотворение входит в контекст цикла, цикл – в контекст «творчество писателя», этот последний, в свою очередь, – в контекст «лирика определенного периода» и т. д. <���…>
2. Категория смысла принадлежит не тексту, но формируется во взаимодействии «значения» текста и конкретного читательского сознания. Индивидуальное восприятие текста включает все субъективно-личностные параметры, вплоть до такого, как «способ жизни субъекта» (Славская). Субъективное восприятие лежит вне сферы правильного/неправильного (о вкусах не спорят), но если мнение начинает претендовать на статус понимания и выдавать себя за объективное, оно должно быть названо неправильным: «Как только интерпретация становится фактом науки о литературе, мы обязаны взыскивать с нее соответствие уже не внутренним потребностям, но внешним критериям достоверности» (Б. Берман) [36: 165].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: