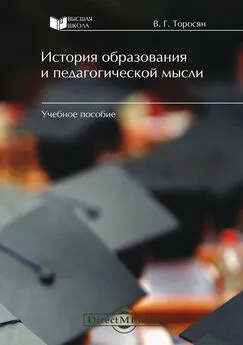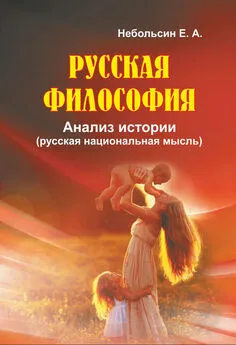Вардан Торосян - История образования и педагогической мысли
- Название:История образования и педагогической мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-2579-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вардан Торосян - История образования и педагогической мысли краткое содержание
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений.
История образования и педагогической мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Идея природосообразного образования была органичным компонентом античной культуры – уже основатель милетской школы Фалес (624–547 до н. э.) сравнивал образование с выращиванием винограда. Само понятие « культура », введенное уже в эпоху эллинизма Цицероном (106–43 до н. э.), переводится как взращивание, вскармливание. Цицерон учил, что люди с самого детства должны взращиваться, воспитываться в согласии с собственной природой. Умелое культивирование, развитие природных задатков рассматривалось как условие становления личности в направлении, наиболее продуктивном для нее и соответственно для общества. Таким образом, «образование» – это образование, формирование личности.
Продолжая этот анализ, следует обратить внимание, что понятие education, которым образование обозначается в ряде современных европейских языков, происходит от латинского educere – вести; слово educo имеет смысл кормить, взращивать, и не случайно для образования подчас на равных правах использовались понятия educatio и cultus (см. Карлов Н. В. Преобразование образования // Вопросы философии. 1998. № 11). В немецком языке образование, «Bildung», буквально означает строительство, построение. Итак, в исходном своем смысле образование означает построение, создание образа человека. Даже понятия instruction – построение, destruction – разрушение, obstruction – преграждение имеют то же происхождение. Возвращаясь к латыни, следует заметить, что doctor восходит к doceo – учить, объяснять, показывать, а master (mister) означает хозяин, наставник, смотритель (см.: там же, с. 12). Таким образом, образованный человек – это не просто грамотный, а образовавшийся, прошедший «пайдейю», если вновь обратиться в античности.
Социокультурная обусловленность приоритетов образования
На Бостонском конгрессе Э. Агацци, экс-президент Всемирного философского союза, подчеркнул, что каждая эпоха имеет свою пайдейю, воспитывая, формируя характерный именно для нее образ человека. Если окинуть взглядом путь от античной пайдейи к современности, то можно заметить, что развитие европейской цивилизации все более сводило образование к обучению, подчиненному сугубо практическим целям. В наиболее откровенной форме это стало проявляться ко второй половине XIX в.. Как заметил К. Маркс, если буржуазия заинтересована была кормить пролетариат ровно в той степени, чтобы обеспечить его физическое существование, то в такой же степени она была заинтересована в его образовании. Если в не столь циничной форме, то, во всяком случае, таким же образом ограничивались, вплоть до XX в., возможности женского образования, особенно в странах Востока.
Если на XIX веке лежит печать «тяжкого трудового дня» (Х. Ортега-и-Гассет), то переход к XX веку ознаменовался тем, что даже университетское образование пропиталось прагматизмом, т. е. соображениями полезности, когда образование все более означало узкопрофессиональную подготовку к чему-то конкретному, а не становление. На Международной конференции по образованию (Алушта, 1991) профессор Хартфордского университета (США) рассказывал о технических чудесах, которые производятся в их университете. На вопрос же, «как бы они поступили, если бы к ним пришел наниматься некий Альберт Эйнштейн», он с горькой улыбкой ответил: «Скорее всего не приняли бы».
В XX в. сама философия образования «пропиталась духом технологизации всего и вся» (см.: Философия образования. «Круглый стол» // «Вопросы философии». 1995. № 11. С. 15). Все более обособляясь от общекультурного контекста образования, в ведущих индустриальных странах (особенно в США) она неизбежно превращалась в разработку практических рекомендаций, технического оснащения занятий и т. д. – в «педагогию» в античном смысле. На смену утопическим программам Просвещения «Всем знать все обо всем» пришла противоположная крайность. Более того, в такой форме философия образования (заметим, что сам термин возник в США, в XIX в.) приобрела социально-институциональную, как бы узаконенную форму.
Таким образом, в течение XIX–XX вв. была сформулирована единая система требований к образованию, закрепленная государственными, институциональными решениями; именно это диктовалось особенностями индустриальной эры. В наиболее жесткой форме это произошло в СССР, что имело прямую социально-политическую обусловленность. Образование носило характер «указующего обучения» (В. Рабинович). Вся деятельность школы и вузов была ориентирована на неизменность социально-экономического и политического устройства и, соответственно, неизменность образовательных приоритетов. Вовсе не случайно даже то, что в школьных, да и вузовских учебниках научные результаты преподносились как последние, окончательные истины, не подлежащие изменению и пересмотру. Система образования характеризовалась полным отсутствием выбора как со стороны учащихся, так и преподавателей. Естественно, это исключало формирование адаптационных и упреждающих качеств. По существу, задачей образования было «воспитание обслуги» на всех уровнях социальной иерархии, вплоть до членов Политбюро, отчетливо осознающих опасность любой инициативы. Уже школа готовила к эксплуатации, вырабатывая готовность к затратным формам поведения – от сферы досуга до экономики.
Вместе с тем историческая справедливость требует признать, что подобный взгляд на образование (как подготовку слуг государства) стал складываться уже в эпоху бурного развития капитализма, вполне вписываясь в педагогическую концепцию Просвещения. На еще одном «Круглом столе» (Культура, культурология и образование // Вопросы философии. 1997. № 2) обращалось внимание (Ф. А. Зотов), что воспитанный индустриальной культурой человек Запада (и прежде всего Америки – могу судить по годичному опыту жизни в США) прежде всего приобретает, обладает , хранит (скажем, культурные ценности в действительно великолепных музеях), в то время как человек Востока живет в своей культуре. В этом смысле граница между Востоком и Западом проходит не столько в географическом пространстве, сколько в пространстве исторической памяти, культуры. Поэтому особые опасения вызывает то, как легко мы отворачиваемся от своей культуры, ее богатейших традиций, от культуры вообще, – уже дважды на протяжении неполного столетия.
Между тем совсем иными были традиции дореволюционного образования . В нынешней безотчетной оглядке на Запад стоит обратить внимание, что в англосаксонских языках нет понятия, которое объединяло бы образование и воспитание. Английские «teaching» и «learning», используемые наряду с понятием «education», относятся скорее к обучению. Это говорит не о бедности английского языка, а о типе культуры и цивилизации, слишком длительное время ориентированных на успех, на обладание (в том числе знаниями) как показатель успеха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: