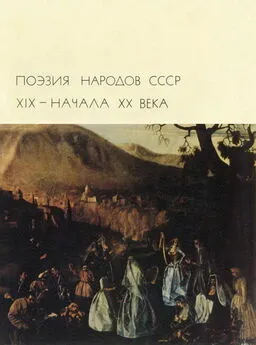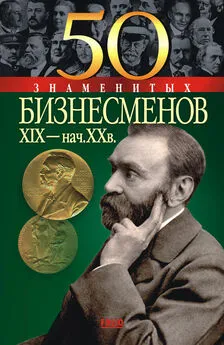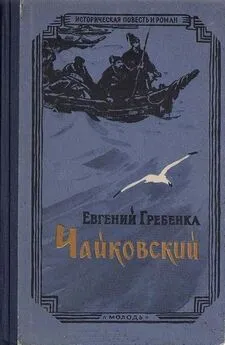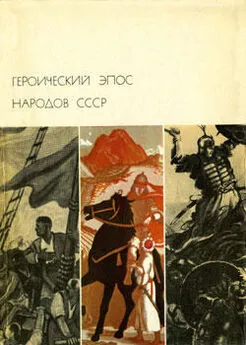Евгений Гребёнка - Поэзия народов СССР XIX – начала XX вв.
- Название:Поэзия народов СССР XIX – начала XX вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Гребёнка - Поэзия народов СССР XIX – начала XX вв. краткое содержание
Украинских поэтов (Петро Гулак-Артемовский, Маркиан Шашкевич, Евген Гребенка и др.);
Белорусских поэтов (Ян Чачот, Павлюк Багрим, Янка Лучина и др.);
Молдавских поэтов (Константин Стамати, Ион Сырбу, Михай Эминеску и др.);
Латышских поэтов (Юрис Алунан, Андрей Шумпур, Янис Эсенбергис и др.);
Литовских поэтов (Дионизас Пошка, Антанас Страздас, Балис Сруога);
Эстонских поэтов (Фридрих Роберт Фельман, Якоб Тамм, Анна Хаава и др.);
Коми поэт (Иван Куратов);
Карельский поэт (Ялмари Виртанен);
Еврейские поэты (Шлойме Этингер, Марк Варшавский, Семен Фруг и др.);
Грузинских поэтов (Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Иосиф Гришашвили и др.);
Армянских поэтов (Хачатур Абовян, Гевонд Алишан, Левон Шант и др.);
Азербайджанских поэтов (Закир, Мирза-Шафи Вазех, Хейран Ханум и др.);
Дагестанских поэтов (Чанка, Махмуд из Кахаб-Росо, Батырай и др.);
Осетинских поэтов (Сека Гадиев, Коста Хетагуров, Созур Баграев и др.);
Балкарский поэт (Кязим Мечиев);
Татарских поэтов (Габделжаббар Кандалый, Гали Чокрый, Сагит Рамиев и др.);
Башкирский поэт (Шайхзада Бабич);
Калмыцкий поэт (Боован Бадма);
Марийских поэтов (Сергей Чавайн, Николай Мухин);
Чувашских поэтов (Константин Иванов, Эмине);
Казахских поэтов (Шоже Карзаулов, Биржан-Сал, Кемпирбай и др.);
Узбекских поэтов (Мухаммед Агахи, Газели, Махзуна и др.);
Каракалпакских поэтов (Бердах, Сарыбай, Ибрайын-Улы Кун-Ходжа, Косыбай-Улы Ажинияз);
Туркменских поэтов (Кемине, Сеиди, Зелили и др.);
Таджикских поэтов (Абдулкодир Ходжа Савдо, Мухаммад Сиддык Хайрат и др.);
Киргизских поэтов (Тоголок Молдо, Токтогул Сатылганов, Калык Акыев и др.);
Вступительная статья и составление Л. Арутюнова.
Примечания Л. Осиповой,
Поэзия народов СССР XIX – начала XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иллюзии патриархального крестьянского демократизма и просветительства в целом исчерпывают себя только в первой русской буржуазной революции 1905–1907 годов, воочию показавшей мощь пролетарского движения и неотвратимость для России социалистической революции. Идейно-художественные этапы и направления национальной культуры благодаря своему позднему старту накладываются друг на друга в весьма сложных и противоречивых сочетаниях.
Романтизм, выросший на почве национально-освободительной борьбы, включает в себя и элементы просветительского рационализма. Критический реализм второй половины XIX века также вбирает в себя некоторые просветительские тенденции. Развитие романтизма как бы «распадается» поэтому на два этапа, и лишь в XX веке он приобретает свою антибуржуазную, разоблачительную, трагическую направленность, то есть приобретает свою индивидуальную сущность, полностью освобождаясь от просветительских и рационалистических черт. Идейно он связан прежде всего с нарастанием и поражением первой русской революции, с отрицанием буржуазного миропорядка.
В художественной практике наших национальных литератур все эти оттопки поэтического развития переплетены между собой, так что весьма трудно в сочетании многих созвучий найти ведущую тему.
Учитывая возможность внешнего совпадения, например, протеста романтиков против «рассудочной цивилизации» и реакции первых символистов против натурализма, их преимущественного интереса ко всему духовному, «сверхъестественному», мы должны тем не менее ясно представлять всю меру противоположности этих направлений. Романтизм создает общественную личность, противопоставляя ее «голому чистогану» буржуазного общества; декадентство и символизм разрушают личность, отчуждая ее в мистическую потусторонность или в холодное равнодушие индивидуализма.
С этой точки зрения поэзия Аветика Исаакяна, Галактиона Табидзе, Майрониса, Габдуллы Тукая и других может служить ярким примером романтического искусства и мышления. Эпическое состояние мира уступает место разорванному, дисгармоническому восприятию, которое воплощалось в субъективной лирике, в развитии прежде всего «личностного» начала в поэзии.
Буржуазное общество, угнетающее человеческую индивидуальность, порождает романтизированное противопоставление ее действительности. Лирический герой замыкается в пределах собственного «я», ограждая созданный личным воображением мир как бы иллюзией действительной свободы, гарантирующей от посягательств буржуазной обыденности, ее низменности и жестокости.
В отличие от предшествующей лирики, которая описывала внешний мир, частью которого был и мир человеческой души, поэты конца XIX — начала XX века воссоздают внутренний мир посредством передачи интимнейших личных переживаний — они выражают отношение лирического «я» к реальности и тем самым, минуя описание, саму реальность.
Эти художники слова развили громадные лирические потенции народной поэзии, в том числе ее способность быть выражением всенародного, а не частного сознания, что позволило их творчеству, находившемуся в пределах романтического художественного мышления, достигнуть тех способов отображения внутреннего мира, которые стали уделом лишь последующих после них периодов развития литературы.
Однако лирическая магия, казалось бы, обычных слов и чувств, вторгающих читателя и слушателя (народ пел песни Аветика Исаакяна, например, как свои собственные) в состояние высокой сопричастности с трагедией и неблагополучием мира, нации, человека и собственной души, воспринималась порой прямолинейно, как некий недостаток, якобы лишающий поэзию ее непосредственных функций.
На самом же деле, чем более трагическими становились звуки романтической лиры Аветика Исаакяна или Галактиона Табидзе, тем более возрастала внутренняя социальная, народная насыщенность их творчества, тем более общественно значимым оно становилось.
Их ранние стихи лишь говорят о неблагополучии мира и трагической судьбе нации; исход как будто видится в мечте, он все-таки существует. Но, когда поэты, полные гнева и разочарования, уходят из этого враждебного человеку мира, когда их покидают все мечты и надежды, именно в этот момент наивысшего драматизма и напряжения их творчество полностью обретает свое индивидуальное, национальное и общественное бытие. Ибо в подобном неприятии было больше бунтарского утверждения идеала и человеческой воли, чем в былых надеждах, ставших в новое время лишь отвлеченными иллюзиями.
Бегство лирического героя из мира — это гимн жизни, гимн человеческому достоинству. И не только потому, что для поэта самая страшная пустыня — это реальный мир, где принужден жить человек по волчьим законам бытия, но и потому, что сам принцип разлада, само неприятие сущего предполагают некое очищение, освобождение и возможность стремления к идеалу. В этом бегстве нет ни смирения, ни примирения, есть гнев и презрение к ничтожному: «Быть хочу вне пределов, не ведать владык, долга не знать, забыть божество: Быть свободной безмерно, безгранно во всем — душа моя жаждет лишь одного!» («Абул Ала Маари» Аветика Исаакяна).
Многие из поэтов, подобных А. Исаакяну, Л. Койдуле, Майронису и Тётке, опирались на стихию народного художественного сознания и создавали песни в фольклорном ключе, в которых мотивы разлада смягчены, поскольку именно в национальном художественном мышлении виделось им положительное начало жизни, возможность ее будущего возрождения. Стихия народной поэзии не столько сглаживала трагизм индивидуальности, сколько, принимая его в себя, делала не столь безнадежным. Принцип поэтизации бытия и целостного его восприятия, столь свойственный народной песне, особенно ощутим в литовской, латышской, эстонской, армянской, белорусской лирике.
Романтизм в поэзии конца XIX — начала XX века, будучи, конечно, связан с национальной идеей, одновременно более индивидуален, более опирается на опыт и традиции европейской литературы и в некоторых аспектах художественной выразительности близок также новейшим течениям, связанным с именами Верхарна, Рембо, Бодлера, Верлена, — как представителей, скорее, поэтической культуры, чем определенного направления.
Сравнивая свою книгу «Конец и начало» с одной из ранних книг, Ян Райнис писал: «Там личность ищет себя и находит в революции. Здесь — исходит от революции, социализма, свободы человечества, отделяет себя и находит себя и человечество — в космосе. Это степень высоты и окончательный вывод всей прежней жизни».
Вот это обретение себя и человечества в поэтическом космосе культуры, истории, этики и грядущей революции становится характернейшей чертой многих поэтов конца XIX — начала XX века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: