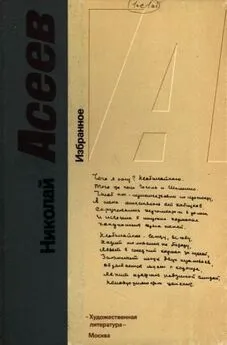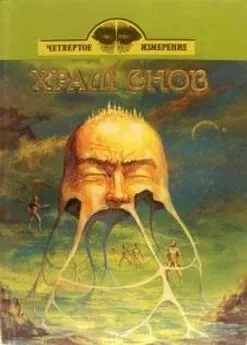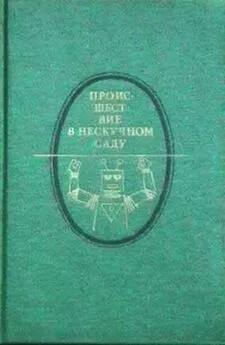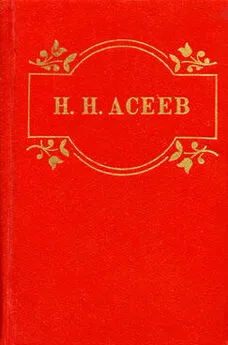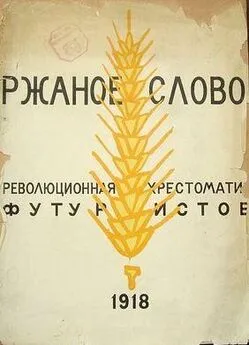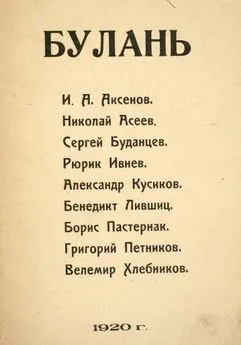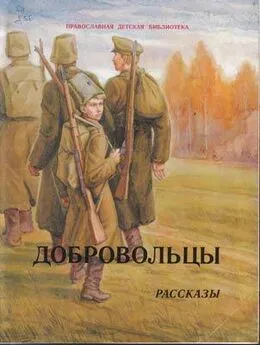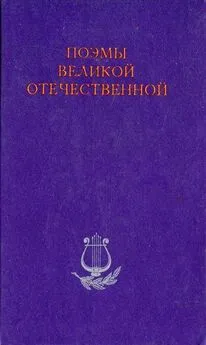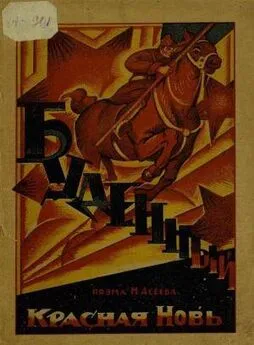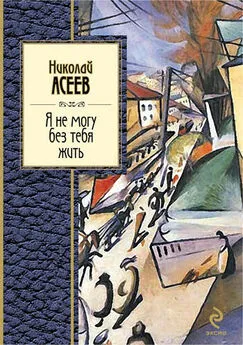Николай Асеев - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Асеев - Избранное краткое содержание
Будучи другом В. Маяковского, работая рядом с В. Хлебниковым, Б. Пастернаком и другими талантливыми поэтами, Николай Асеев обладал своим лирическим голосом. Его поэзия отличается песенностью интонаций и привлекает языком, близким к русскому фольклору.
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гремль – кремь – кремль… Мы пошли за неясным звуком, погрузились в рожденные им видения, чтобы вернуться к тому, как в весенний день 1914 года ощущение свежести, пробуждающейся жизни было пережито Асеевым около веющих древностью стен Московского Кремля. Поэтическая речь возвращает память нам и ясность как будто только что услышанному, впервые понятому слову.
Звуковая убедительность в стихах раннего Асеева – один из важнейших аргументов: мы, не сразу понимая – о чем речь, доверяемся говорящему. Нас ведет особая – музыкальная – логика. Впрочем, «музыкальность» – уместное ли слово в разговоре о том, как кто числил себя футуристом?
В их манифестах декларировано разрушение «мелодической скуки» предшественников и установление неудобного для произнесения звукоряда, чьим камертоном – безудержно-осмеянное и редко без ошибки цитируемое звукосочетание А. Крученых: «Дыр, бул, щыл…»
Над ним много смеялись и все еще смеются, не обнаруживая значения, а оно есть, такое же, как в знаменитом приказе Маяковского по армии искусств: «…есть еще хорошие буквы Эр, Ша, Ща». Шершавые звуки, осязаемые, и мир в них должен присутствовать в своей ощутимой предметности, ибо смысл рождается в звуке.
Таково футуристическое убеждение. Разделяя его, Асеев узнаваем и особенно рано оригинален именно в звуковой организации своего стиха. Он подчас так же, как и его поэтические соратники, готов отдаться звуковой волне, бьющейся из глубины, еще не высветленной сознанием, – зауми. Но в его стихах вы всегда ожидаете высветления смысла и самого звука, неожиданного разрешения неудобного звукоряда, почти до непроизносимости насыщенного немузыкальными согласными, – и вдруг:
У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?
Здесь разрешение наступает на женском имени, звучащем чисто и пронзительно – признанием. Разрешение звуковое и эмоциональное. Нередко оно дополняется и зрительным образом, которому сопутствует любимый асеевский цвет – синий, неожиданным – синим! – пламенем плещущий по многим его стихам.
Он и в одном из самых известных стихотворений поэта – в «Синих гусарах». Удивляются – почему синие? По цвету мундира? Не в этом дело, не в исторических реалиях: синева здесь не столько цветовой, сколько эмоциональный тон, окрашивающий обычную для Асеева сказку или легенду. В этот раз – о декабристах.
Новая поэзия в начале десятых годов создавалась со слухом, обращенным к живому слову, к его рождению в том звуковом гуле, который предшествует стиху; к его разговорному звучанию в речи улицы…
Поэтическая речь в исполнении каждого оказывалась сопоставимой с разными типами реальной речи: разговорной, ораторской… У Асеева – с песенным ладом, где сохранна интонация разговорной фразы.
Он и сам – в ранние годы и в поздние – любил отметить, что движение стиха началось, оттолкнувшись от сочетания слов, увиденных на уличной вывеске («Объявление») или подслушанных в случайном разговоре («Еще за деньги люди держатся…»). Услышанное не забывалось, не деформировалось в стихе, звучащем интонационно-естественно. А. Ахматова, как вспоминает мемуарист, рассказывала: «Однажды ко мне подошел Николай Асеев и сказал: „Не враг я тебе, не враг…“ Я не сразу поняла, что это стихи…»
Не враг я тебе, не враг!
Мне даже подумать страх,
Что к ветру речей строга,
Ты видишь во мне врага.
Написано в 1924 году. Мы можем оценить, какой путь в сторону прояснения смысла проделан Асеевым за десять лет. Однако, ценя обретаемую им ясность, не будем – с ее высоты – уничижительно думать о темных стихах ранней поры. В них – сознание, пытающееся заглянуть в собственную глубину и сверяющее свою внутреннюю жизнь с жизнью природы. Именно в те годы Асеев, как равный с равными, – рядом с Хлебниковым, Маяковским, Пастернаком… У него мы легко различаем хлебниковское погружение в звук, пастернаковский прием, тему или жанр Маяковского. Влияние? Но сверяем даты и порой видим: у Асеева раньше.
Даже Хлебников, признанно всеобщий учитель, генератор идей, для Асеева более, чем для кого-либо, явился (по точному выражению Д. Мирского) учителем «отрицательным», «который учил быть самим собой, учил быть „творянами“». Соприкоснувшись с Хлебниковым, Асеев открыл то, чем давно владел: чистой русской речью – по праву рождения во глубине России, словом, за которым с детства увлекавшие Асеева летописи, былины, «Слово о полку Игореве»…
Друзья Асеева – великие поэты, рядом с которыми трудно не потеряться, тем более что их пути пролегали очень близко. Это было движение общее, в одном направлении. И все-таки Асеев узнаваем.
Он узнаваем в мифологически цельном восприятии мира, который призывал постичь Хлебников в языке. У Хлебникова – универсальность лингвистической утопии, у Асеева – проникновение мгновенное, эмоциональной вспышкой:
Если мне умереть – ведь и ты со мной!
Если я – со зрачками мокрыми, –
ты горишь красотою писаной
на строке, прикушенной до крови.
Попробуйте пересказать последние две строки. Вам не обойтись без набора основных лирических понятий: любовь, красота, страдание, поэзия. В стихах они присутствуют неназванные, нанизываясь на тот невидимый стержень, чью роль выполняет метафорическая подробность – до крови прикушенная строка. Лирические понятия входят чувственно – физической болью, связавшей любовь и поэзию, или бьющим в глаза светом, который вдруг начинает излучать старая, давно стершаяся поэтическая формула – «писаная красота». Как будто реставратор снял темный слой олифы, и иконописный лик снова перед нами в первоначальной яркости красок.
Мы только ощущаем, что один понятийный слой входит в другой: война, опасность, любовь… Они нерасторжимы настолько, что нет пространства для сравнения, а значит, нет повода для метафоры. Здесь, кажется, как нередко бывает у раннего Асеева, связь не метафорическая, а та полнота слиянности, взаимной обратимости, которая заставляет произнести другое слово – миф:
Будет тень моя беситься
дни вперед, как дни назад,
ведь у девушки-лисицы
вечно светятся глаза.
Это асеевское, узнаваемое так же, как и его удивительный по чистоте эмоциональный тон. Редкий дар, тем более в зрелой, богатой поэтической культуре, где все говорено-переговорено, пето-перепето, где любое вечное чувство грозит банальностью. Как вырваться из ее тисков? Кто-то ищет психологических осложнений, неожиданных жестов…
Асеев пытается запечатлеть чувство цельно, не дробя на жесты, на оттенки, на подробности, дать его принадлежащим не мгновению, а вечности. Он не ведет лирического дневника, не имеет в виду подробной исповеди сердца. Его тема – любовь и тоска в разлуке, любовь и осенняя печаль, любовь и страх смерти… В общем: «Оксана – жизнь и Оксана – смерть».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: