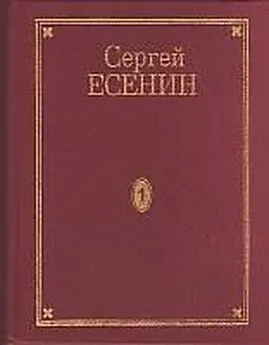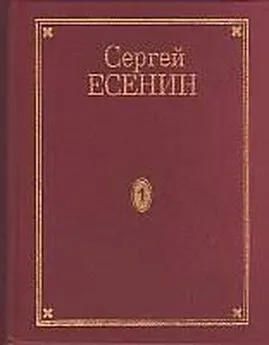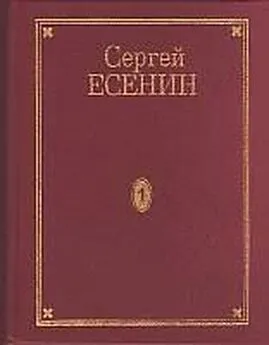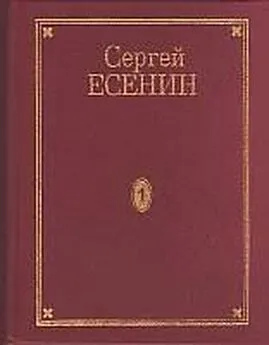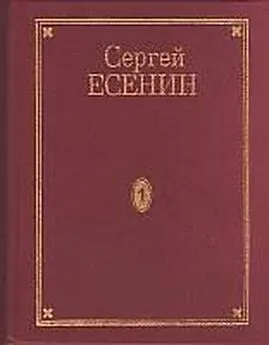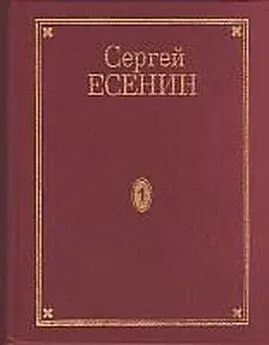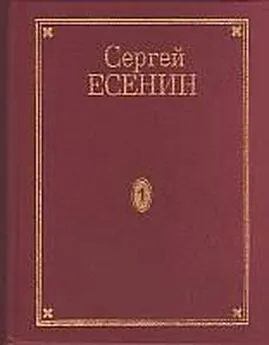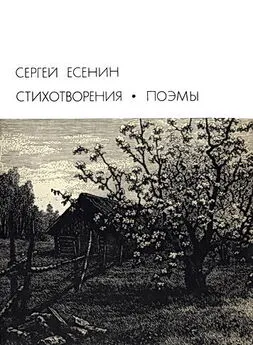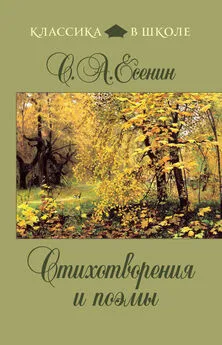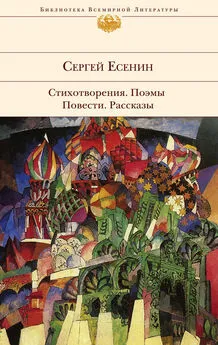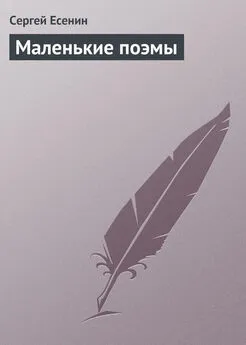Сергей Есенин - Том 3. Поэмы
- Название:Том 3. Поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Москва, Наука, 1995-2002
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Есенин - Том 3. Поэмы краткое содержание
В третьем томе Полного собрания сочинений Есенина представлены поэмы «Пугачев», «Страна Негодяев», «Песнь о великом походе», «Поэма о 36», «Анна Снегина», «Черный человек».
В данной электронной редакции опущен раздел "Варианты".
http://rulitera.narod.ru
Том 3. Поэмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако сюжет поэмы и судьба ее героев существенно отличаются от тех реальных событий, свидетелем и участником которых был сам поэт. Прежде всего это касается центрального в поэме эпизода разорения снегинской усадьбы, «хуторского разора» («В захвате всегда есть скорость: // — Даешь! Разберем потом…»). В действительности Есенину удалось удержать своих односельчан от подобного шага. В жизни инициатором разорения «буржуйского гнезда» явился рабочий-большевик П. Я. Мочалин. Решение о судьбе барской усадьбы принималось на собрании односельчан. В воспоминаниях Е. А. Есениной это событие отнесено к лету 1918 г. и передано в восприятии матери и соседки: «Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею:
— Она ‹помещица› тебя просила, что ль, заступиться?
— Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? Растащат, разломают все, и никакой пользы, а сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас! — говорил Сергей.
— А я вот что скажу — в драке волос не жалеют. И добро это не наше и нечего и горевать о нем.
Наутро пришла ко мне Нюшка.
— Эх ты, чего вчера на собрание не пошла? Интересно было. ‹…› Знаешь, Мочалин говорит: надо буржуйское гнездо разорить, чтобы духу его не было, а ваш Сергей взял слово и давай его крыть. Это, говорит, неправильно, у нас нет школы, нет больницы, к врачу за восемь верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно! Ну и пошло у них.
Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория, а барскую конюшню переделали в клуб» (Восп., 1, 49–50. — Сейчас в доме Л. И. Кашиной открыт «Музей есенинской поэмы „Анна Снегина“»).
Сохранилась также конспективная запись рассказа Л. И. Кашиной (в ней идет речь о сент. — окт. 1918 г.), выполненная С. А. Толстой-Есениной: «Кашину выгнали из дома, пришли сведения, что отбирают ее дом в Москве. Она поехала в Москву, он ‹Есенин› поехал ее провожать. Первое время жил у нее. Очень отрицательно ‹отзывался о происходящем› в разговорах с ней.
Отношение к Кашиной и ее кругу — другой мир, в который он уходил из своего и ни за что не хотел их соединять. Не любил, когда она ходила к ним. Рвался к другому ‹миру›. Крестьянской классовости в его отношении к деревне и революции она не чувствовала» (Письма, 461).
В поэме «Анна Снегина», кроме реальных исторических фигур — В. И. Ленина и А. Ф. Керенского, а также отряда Деникина и в черновых вариантах А. А. Блока и Мережковских, выведены герои, образы которых являются в известной мере собирательными. Есенин отразил в них черты реальных людей, с которыми был знаком.
Образ героя-рассказчика , которому Есенин дал свое имя — Сергей (в речи Анны), Сергуня, Сергунь, Сергуша, Сергуха (в речи мельника), — играет важную роль не только в содержании, но и в композиции поэмы и имеет некоторые автобиографические черты: дезертирство из армии Временного правительства, о котором поэт упоминал в автобиографии 1923 г. и других документах (см. т. 7, кн. 1 наст. изд.), приезд весной 1917 г. в Константиново, болезнь героя («И в этом проклятом припадке // Четыре я дня пролежал…», ср. в письме к А. Белому (сент. — дек. 1918): «Лежу совсем расслабленный в постели» с указанием адреса: «Адрес: Скатертный пер., д. 20. Лидии Ивановне Кашиной для С. Е.»), посещение села летом 1924 г., переписка с дедом. Но полного совпадения между героем «Анны Снегиной» и самим Есениным нет. В передаче отдельных фактов Есенин использует прием ретардации: эпизод посещения героем поэмы села Радово весной 1917 г. (см. ст. 138–146 со слов «Беседа окончена. // Чинно…» до «Состарившийся плетень», с. 163–164), по мнению А. А. Есениной, совпадает по реалиям с одним из майских вечеров в Константинове летом 1924 г.: «Мимо нашего плетня, сплетенного неумелыми руками отца, проходил Есенин с овчинной шубой в руках на сеновал, и вместо сирени лицо его задевали наши цветущие вишни» (Восп., 1, 97); «стихи про кабацкую Русь» (так же, как и широкая известность и др.), вошедшие в книгу Есенина «Москва кабацкая» (1924), написанные в 1922 и 1923 гг., упоминаются в поэме при описании событий 1917 г.
Образ главной героини поэмы Анны Снегиной также собирательный. Одним из ее прототипов является Лидия Ивановна Кашина (1886–1937) — дочь богатого помещика Ивана Петровича Кулакова (?—1911), которому принадлежали хутор Белый Яр, леса за Окой, тянувшиеся на десятки километров в глубь Мещеры, заливные луга, а также ночлежные дома в Москве на Хитровом рынке. «„Кулаковкой“, — писал В. А. Гиляровский, — назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Владельца главной трущобы Москвы с его миллионами „вся полиция боялась“, потому что „с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался“» (в его кн. «Москва и москвичи», М., 1981, с. 20–30). После смерти И. П. Кулакова хутор Белый Яр достался в наследство сыну Борису Ивановичу (в 1915 г. он поставил там дом — место действия в повести «Яр», см. т. 5 наст. изд.), а дочери — имение в Константинове («дом с мезонином») и заливные луга. Кроме того, им разрешалось пользоваться процентами с восьмимиллионного вклада в банке.
Л. И. Кашина была красивой и образованной женщиной. В 1904 г. с отличием закончила Александровский институт благородных девиц, владела несколькими языками. Е. А. Есенина вспоминала: «К молодой барыне все относились с уважением. Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу.
Каждый день после полдневной жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле, рядом с ней ехал наездник.
Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми.
Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме» (Восп., 1, 44). Сын Л. И. Кашиной, Г. Н. Кашин, рассказывал, что летом 1917 г. в доме Кашиной устраивались литературные вечера и домашние спектакли, которые иногда посещал Есенин (см. подробнее: Шетракова С. Н. Анна Снегина и Лидия Кашина — образ и прототип. — Журн. «Лит. учеба», М., 1987, № 3, с. 216 и Архипова Л. Л. И. Кашина в Константинове, — Есенинский вестник. Гос. музей-заповедник С. А. Есенина, 1992, с. 14–15.). «Матери нашей, — вспоминала Е. А. Есенина, — не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. ‹…›
— Мне, конешно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, — продолжала мать, — нашла с кем играть.
Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом. ‹…› Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной „Зеленая прическа…“ (Восп., 1, 45–46; см. наст. изд., т. 1, с. 123–124, 535–536). Прогулкой с Кашиной на Яр летом 1917 г., по словам Е. А. Есениной, навеяно стихотворение «Не напрасно дули ветры…» (см. т. 1, с. 85–86 наст. изд.; Восп., 1, 45–46).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: