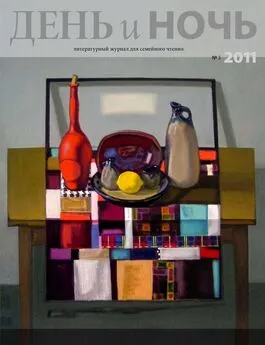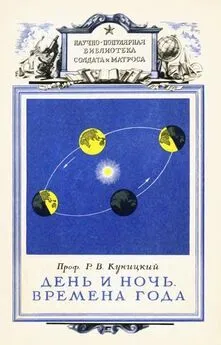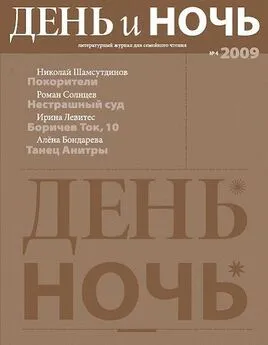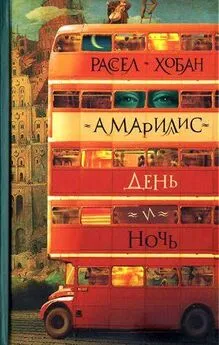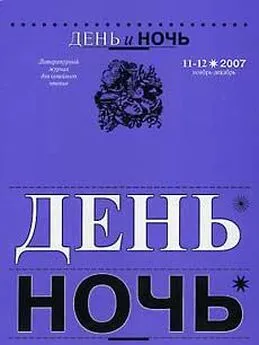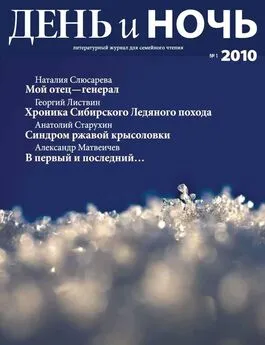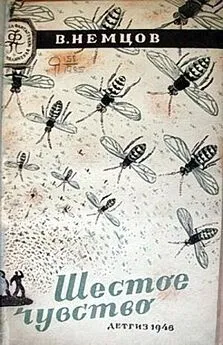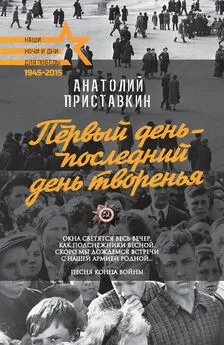Анатолий Аврутин - Журнал «День и ночь» 2011–03 (83)
- Название:Журнал «День и ночь» 2011–03 (83)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Аврутин - Журнал «День и ночь» 2011–03 (83) краткое содержание
Журнал «День и ночь» 2011–03 (83) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…И лижет, пеною вскипая,
зернистый, молодой песок.
И кто только не видывал этот песок! И никто не назвал его молодым. Почему же? Да потому что он очень схож с молодой росой, и с молодой пшеницей, и с молодой листвой.
Как человек, связанный с Россией не только кровными узами (это уж само собой), но ещё и той росой, он не может, отдыхая на «волнах» душой (пусть душа отдохнёт хоть немного, — и проявит к себе интерес), не чувствовать, например, в Чехии, щемящую боль, может быть, чисто русскую боль: уезжают радостные, живут богатенько, но — тоскуют по русской грусти и русской же треклятой бедности.
Да, плохо в России, и, может быть, даже
Ещё будет хуже, но только, друзья,
Не я ли тот самый, кто встал вновь на страже
Последних высот, что отдать нам нельзя.
Слышу, слышу голоса: слишком пафосная строфа, мы же не политработники! Да политработники мы все, кто написал хоты бы два-три стиха, два-три рассказа, политработники! Но надо иметь в виду, что есть среди нас разрушители, а есть созидатели. Но и те, и другие являются по сути своей политработниками. Среди тех и других есть пассивные до пляжной лености, а есть люди активные, которым легче встать на защиту последних высот, чем баловать себя этаким не разрушительным (уже хорошо) созерцанием, возвышая себя, естественно, не напрямую, над читающим человечеством.
Иван Переверзин — личность активная и созидательная. И поэзия у него такая же.
Грозовой сон
По-разному распоряжаются романисты этим сильным средством — сном. Кто-то уходит в мнимое и ирреальное, в трансцендентное и трансцендентальное снов и сновидений. А кого-то тревожат по ночам сны реальные, обычно увлекающие в прошлое.
Боже мой! Какое это счастье —
Вспоминать мальчишечьи года…
Я часто повторяю, что писателя рождает Малая Родина. А у неё свои методы воспитания, никем не познанные, хотя и там, в Малой Родине каждого из нас, существовали и, слава Богу, существуют прекрасные воспитатели, учителя, друзья, родители и т. д. Но, удивительно, только самым чутким писателям она даёт то чувство жизни, без которого невозможно писать жизнь, любую: свою ли, чужую, а то и выдуманных героев жизнь.
Этим даром Иван Переверзин наделён, и в книге (романе) «Грозовые крылья» он им воспользовался с блеском.
Он — прекрасный пейзажист, у него столь же прекрасная писательская память, которая хранит до поры, до времени детали далёкой по времени жизни. Он не растерял добрых родственных чувств. И более того, он ведёт от стиха к стиху (их немало в книге) линию семейную, линию Малой Родины с такой пронзительной искренностью, будто не просто вспоминает прошлое, но отдаёт долги прошлому своему, наполняя тем самым многослойное пространство романа новыми линиями, расширяя объёмные горизонты.
А ещё Иван Переверзин не потерял вкус к полётам! Они даются нам в наших снах в те годы, когда мы растём. Физически. Но мы растём не только физически, но и творчески. И летать нам во снах можно до глубокой старости.
Но почему он выбрал сны грозовые? Летать во время грозы опасно, можно потерпеть крушение. Даже если эти сны из далёкого детства, сны воспоминания. Ответить на этот вопрос можно лишь так: даже летая, даже летая в реалиях прошлого, доброго, автор остаётся в суровой грозовой реальности современного мира. Об этом последнее стихотворение главы, заканчивающееся следующей строфой:
Вот и смотри теперь без суеты
На этот мир, где мира вовсе нету,
А есть одни лишь светлые мечты,
С которыми в бессмертье жить поэту.
Северное сияние
Не был я на Севере, и вряд ли доведётся там побывать. И вряд ли увижу я собственными глазами Северное сияние, которое, как говорят пожившие там много лет люди, далеко не каждому дано увидеть. И в книге я его не увидел, что вполне понятно. Но я… пожил, читая эту главу, под Северным сиянием!
Художник хороший Иван Переверзин, и человека, и людей он чувствует, знает, видит и пишет очень зримо. Однако можно задать вопрос: «Зачем же ему понадобилась эта глава в книге (романе), если в других главах уже были пейзажи и люди Севера?» А можно ли из снов, проснувшись, сразу вырваться на «Излом времени», в крутую нашу жизнь? А то и в грозу бурную? Из сонной неги да в крутой жизненный бой — с ума легко сойти.
Лучше, когда после нежных, пусть иной раз и напряжённых (там, во сне, жизнь бывает разной), снов, человек вбрасывает себя в жизнь не по принципу сурового судьи, бросающего несчастную шайбу на лёд, но постепенно, по спокойно экспоненте, плавно, то есть.
Но дело в том, что в пленэре главы «Северное сияния» не только тишь да благодать! Иван Переверзин и сам редко отдыхал подолгу. И читателю этого делать он не даёт, продолжая вбрасывать в главу стихотворения из разных линий «каната жизни». Но нам пора выполнить данное ранее обещание и вспомнить стихотворение одного из величайших поэтов арабского мира времён джахилийи (до принятия ислама).
Что вижу, то пишу!
О стихотворении «Заветное»
Уже само название стихотворения говорит об отношении поэта к этому произведению. Начинается оно так:
Вновь, как якут из Олонхо,
По тундре еду — на олене,
О всём, что вижу высоко,
Пишу, сжигая вдохновение.
«Что вижу, то пишу», — помните поэты, начинавшие почти все со звания «начинающий», да и прозаики тоже, как часто дамочки-отзовистки, писавшие отзывы на ваши стихи и рассказы, использовали эту фразу, чтобы отговориться: «Фи, разве можно так писать: „что вижу, то пишу?!“ Это же не поэзия!» Они не знали, а некоторые из них до сих пор не знают, что же это такое — поэзия. Простим это грешок отзовисткам. Поговорим о серьёзном.
Вспомним драматичную историю поэзии бедуинов, давших миру непревзойдённые шедевры и писавших по принципу «что вижу, то пишу», «что знаю, то пишу». Вспомним величайшего из поэтов времён джахилийи Имру-уль-Кайса Хундудж ибн Худжр аль-Кинди. Вот его конь:
Утро встречаю, когда ещё птиц не слыхать,
Лих мой скакун, даже ветры бы нас не догнали,
Смел он в атаке, уйдёт от погони любой,
Скор, как валун, устремившийся с гор при обвале,
Длинная грива струится по шее гнедой,
Словно потоки дождя на скалистом увале.
О, как раскатисто ржёт мой ретивый скакун,
Так закипает вода в котелке на мангале.
…Кружится детский волчок, как стремительный смерч, —
Самые быстрые смерчи меня не догнали.
…С крепкого крупа вдоль бёдер до самой земли
Хвост шелковистый струится, как пряжа густая.
Снимешь седло — отшлифован, как жёрнов, хребет,
Как умащённая шёрстка лоснится гнедая.
Интервал:
Закладка: