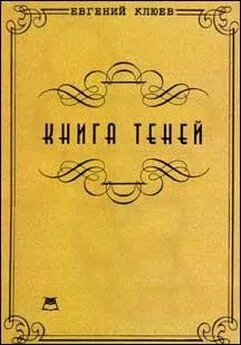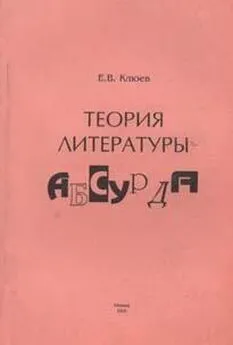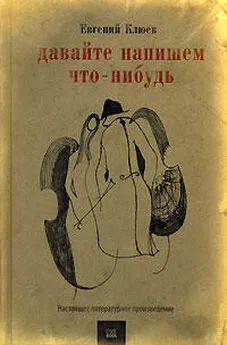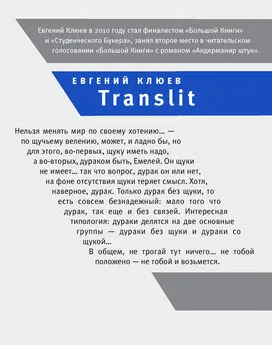Евгений Клюев - Музыка на Титанике (сборник)
- Название:Музыка на Титанике (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1249-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Клюев - Музыка на Титанике (сборник) краткое содержание
В новый сборник стихов Евгения Клюева включено то, что было написано за годы, прошедшие после выхода поэтической книги «Зелёная земля». Писавшиеся на фоне романов «Андерманир штук» и «Translit» стихи, по собственному признанию автора, продолжали оставаться главным в его жизни.
Музыка на Титанике (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ни к чему оплакивать мой злой рок —
это ерунда, что всё идет вкривь:
непереводимая игра строк,
непереводимая игра рифм.
В этот город я уже совсем врос,
страшно лёгок мне его корней груз —
непереводимая игра фраз,
непереводимая игра грёз.
Только не пытаться понимать всех:
всяк ведь как умеет, так и живёт,
и летает в небе золотой смех —
непереводимый детский смех, вот.
«Ложка дикого мёда и веточка винограда…»
Ложка дикого мёда и веточка винограда,
и зелёного чая светлая бездна…
Что касается вашего кофе среднего рода,
то, спасибо, не надо – да пожалуй, и поздно:
в это время я кофе не пью, тем более среднего рода.
И поверьте, что дело не в консерватизме
и не в том, что порода не та или, скажем, природа…
Дело в прожитой жизни,
в одной лишь прожитой жизни,
от которой и так уж не много чего осталось —
так… щепотка весьма потрёпанных идеалов,
как то: эгалите, либерте и прочая малость —
или милость, да парочка идолов обветшалых,
да большая любовь – я теперь забыл её имя,
да постыдное мелкотемье и малострофье,
да остаток уменья не группироваться с другими —
и дымящийся кофе, дымящийся чёрный кофе.
«Я уехал не в страну…»
Я уехал не в страну —
я уехал в тишину,
я уехал на рассвете
(было пусто на билете)
и состарился в полёте
ровно на одну струну,
ровно на одну строку,
на понюшку табаку —
ровно на одну понюшку,
взятую с собой в дорожку…
собирался понарошку,
поклонялся ветерку.
Собирался понарошку,
путая орла и решку,
попивал с гостями бражку,
поминали старину.
Говорил о чём – о Боге,
и о том, как мы убоги,
но состарился в дороге
ровно на одну струну —
на ту самую струну,
на ту самую строку,
что с тех пор ищу по свету
столько лет, да толку нету, —
на строку, на сигарету…
на одно кукареку.
Категория определённости
Говорят, я совсем не знаю этого человека.
А я знаю, что ветер в его голове зелёной,
что он скачет на лошади белой, блестя короной,
и что мёд в его сердце, а на устах ежевика.
Говорят, это всё хорошо, только этого мало —
и я должен иметь в руках рулетку и компас:
вот тогда я с ним, значит, как следует познакомлюсь
и начну разговаривать как ни в чём не бывало.
А пока, говорят, не ходи до конца абзаца,
не встречай незнакомца своею приветливой песней,
ибо он кем угодно может вдруг оказаться,
стой в начале абзаца: оттуда он безопасней.
Но вчера я общался с ним как со старым знакомым:
посидели, попили вина, поболтали о вечном,
а когда наболтались, он сразу сказал: «По коням!» —
и к себе ускакал, в направлении ежевичном.
Улыбается фрёкен Грамматика – ей вольну улыбаться:
значит, так, говорит, заруби на носу, калека,
человек этот нам неизвестен покуда, и баста,
хоть и мёд в его сердце, а на устах ежевика!
Между тем, твоя песня, мой милый, давно уж спета.
А когда она спета, мой милый, все взятки гладки.
А когда они гладки, мой милый, то нет загадки —
всё на свете определилось само собою.
Этой чашке давно пропели многая лета.
Из неё пило чай уже несколько поколений —
у неё и вид совсем уже юбилейный,
у неё есть фамилия – вот хоть, допустим, Хансен.
А ещё у меня есть стол по имени Клаус,
а ещё у меня есть скатерть по имени Дорте,
дорогущая ручка Марлен и портфель потёртый:
двадцать лет, из России – Ершов Николай Петрович.
Ничего незнакомого в жизни моей не осталось —
весь мой хаос давно учтён и пронумерован.
Что до внешнего мира, лежащего за порогом,
то когда-нибудь я и там всё пронумерую.
А пока я чужой ему – и не умею, не понимаю
отличить то, что каждому пню на земле известно,
от всего остального… и с башней глухонемою
говорю как с сестрою, с которой росли бок о бок.
«То славянщина, а то… то неметчина…»
То славянщина, а то… то неметчина —
до каких же пор, скажите на милость?
Стоит только замереть… – всё изменчиво,
всё давным-давно уже изменилось.
И ни дома нет того, ни отечества,
ни рогатой той ветлы у развилки —
всё сплошное, извините, летучество…
ни постели, виноват, ни подстилки!
Я и сам бы изменился бы к лучшему,
я бы снова занялся бы азами,
я послал бы эту жизнь мою к лешему
и взглянул на всё другими глазами —
скажем, лекаря, а может, и пекаря
или пахаря… пахал бы глубуко!
Ан живу себе, как жил: добрый век коря, —
и нисколько не меняюсь, собака.
Да и знаю, что как жизнь ни нарядится,
ни прикинется нечистою силой —
не меняется в небе Богородица,
не меняется Ангел сизокрылый.
«Что там в руках – что в облаках…»
…и думали, что она либо умерла, либо очарована.
Шарль Перро. Спящая красавицаЧто там в руках – что в облаках
и где журавль – где синица,
теперь уже не объяснится
ни так, ни эдак и никак:
тут чем-то залита страница —
как раз на слове «заграница»,
и больше эта заграница
в поблёкших не видна крючках.
А спросят – что-нибудь наври
про населенье коренное:
что головы у них – по три,
и все – с Луну величиною,
и все отравленной слюною
от веку брызжут… дикари.
Наври, как врали сотни лет
бродяги, странники, гуляки,
чьи беззастенчивые враки,
кружась и не даваясь в руки,
очаровали белый свет, —
и никакого шанса нет
разоблачить все эти враки,
и никакого смысла нет.
И не тебе – ловить на лжи
да посягать на миражи,
гуляка, странник, белый клоун!
Ты сам попрал все рубежи,
а спросят, где пропал, – скажи,
что умер или очарован.
«Помню старость: семь лет с лихвой…»
Помню старость: семь лет с лихвой —
и забот полон рот,
с запрокинутой головой
через весь небосвод —
разобраться с судьбой светил
и природных стихий,
попросить, чтобы Бог простил
все мои грехи:
так… раздавленный, значит, жук
и разлитый морс,
под дождём забытый пиджак
и полёт на Марс —
больше вроде не нагрешил
(нагрешу потом).
Остаётся из двух рейсшин
сколотить фантом,
пошататься по лопухам,
покопаться в ранце,
беспокоясь, как там стихам,
недописанным – раньше.
«Я о тебе напишу ещё, обещаю я по дороге…»
Я о тебе напишу ещё, обещаю я по дороге
облачку безразличному по имени Розалинда,
и о тебе напишу ещё, улитка-рогач Ольдерроге —
скажем, на суахили, чтоб было совсем солидно,
а о тебе и подавно, сторожевая башенка —
сколько ни езжу мимо, имени не запомню:
с виду простая башенка, но там обитает боженька,
с ужасом наблюдающий нашу страшную бойню.
Интервал:
Закладка: