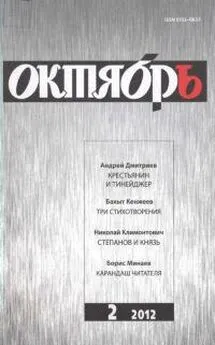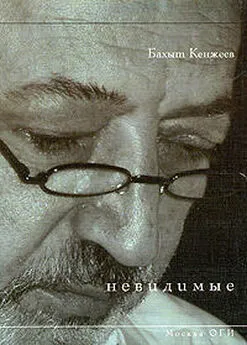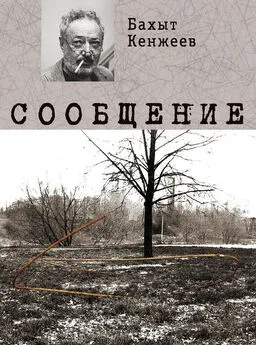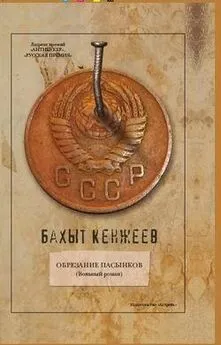Бахыт Кенжеев - Крепостной остывающих мест
- Название:Крепостной остывающих мест
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-9691-067
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бахыт Кенжеев - Крепостной остывающих мест краткое содержание
Всю жизнь Бахыт Кенжеев переходит в слова. Мудрец, юродивый, балагур переходит в мудрые, юродивые, изысканные стихи. Он не пишет о смерти, он живет ею. Большой поэт при рождении вместе с дыханием получает знание смерти и особый дар радоваться жизни. Поэтому его строчки так пропитаны счастьем.
Крепостной остывающих мест - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
шурши ореховыми листьями,
мой слабый, неказистый друг.
Мигнешь – и даже эта истина
скользнёт и вырвется из рук.
II
«Подросток жил в лимоновском раю…»
Подросток жил в лимоновском раю.
Под крики Разговорчики в строю!
он на вокзал, где тепловозы выли
по-вдовьи, заходил, как в божий храм,
заказывая печень и сто грамм
молдавского. В Москве стояли в силе
партийцы-земляки, и городу везло
(ах, чёртов Skype, дешевка, блин! Алло!),
там строили микрорайон «Десница»,
клуб юных химиков и монумент Чуме.
Напёрсток матери. Гладь. Крестик. Макраме.
Ночь. Наволочка. Почему-то снится
тяжёлый шмель на мальве, хоботок
и танковое тельце. Водосток
(из Пастернака) знай шумит, не чая
былых дождей. Что жизнь: огонь и жесть.
Что смерть: в ней, вероятно, что-то есть.
И сущий улыбался, отвечая
на плач ночной: «Спи, умник, не горюй.
Вот рифма строгая, вот шелест чёрных струй
грозы ночной. И это всё – свобода».
«О нет, – шептал юнец, – убога, коротка.
Хочу в америку, где реки молока
и неразбавленного мёда».
«Полыхающий палех (сурик спиртом пропах)…»
Полыхающий палех (сурик спиртом пропах) —
бес таится в деталях, а господь в облаках —
разве много корысти в том, чтоб заполночь за
рыжей беличьей кистью, напрягая глаза,
рисовать кропотливо тройку, святки, гармонь?
Здравствуй, светское диво, безблаженный огонь,
на скамеечках Ялты не утешивший нас —
за алтын просиял ты, за копейку погас.
Остаётся немного (а умру – волховство
оборвётся и, строго говоря, ничего
не останется). Я ли в эти скудные дни
не вздыхал на причале, не молился в тени
диких вязов и сосен, страстью детской горя?
Там распахнута осень, что врата алтаря.
Если что-то и вспомню – только свет, только стыд
перед первою, кто мне никогда не простит.
«Язвы на лбу не расчёсывай, спи…»
Язвы на лбу не расчёсывай, спи.
Поздно. Осталось немного.
Ссыльные суслики в тесной степи
молятся смертному богу
гадов, лишайников и грызунов,
лапами трогая воздух.
Блещет над ними – основа основ —
твердь в неухоженных звёздах.
Знаю, о да, каждой твари своё,
обморок свой или морок.
Следом за рыжими чудо-зверьё
молча вылазит из норок.
Волк отощавший, красотка-лиса,
заяц с ужом желтоглазым
в тёмной надежде глядят в небеса,
хором космический разум
молят. Прости. Я напрасно мудрю.
Звери степные уже к сентябрю
верно, рассеются, словно евреи
после Голгофы. Останусь один,
пьяный очкарик, единственный сын,
пить углекислое время.
«Там, где шипастые растения и шпат поверженный могуч…»
Там, где шипастые растения
и шпат поверженный могуч,
плывут раскидистые тени
шершавых, истощённых туч —
всё прошлое на страсть потратили,
и будущее – как и ты;
плывут, любому наблюдателю
видны – но только с высоты.
Давно ли, школьною тетрадкою
утешен, наизусть со сна
ты пел вполголоса несладкие
стихи майора Шеншина?
Давно ль восторги эти загодя,
сок вытянувши из земли,
ольхою, и сердечной ягодой,
и мхом прогорклым поросли?
Так созерцающий озёрную
гладь в острых крапинках дождя
зачем-то просит смерть позорную
не хлопать дверью, уходя.
Стирай, душа, простынки-наволочки,
ложись верёвкой бельевой —
хрустят ли облачные яблочки
в твоей ладошке неживой?
«…а ещё – за начальною школою…»
…а ещё – за начальною школою,
средь обкорнанных тополей,
знай ветшала забытым Николою
на могильцах, – светлее, смелей,
чем казалось, головкою маковой
мне кивала, робела навзрыд…
Ах, как много в Московии всякого
незабвенного хлама лежит!
Только не по Ордынке купеческой —
там лихой обитает народ,
там кистень в друзьях
с кистью греческой
да метро механический крот
роет, вялые речки подземные
промораживая острым ртом,
палисадники пахнут изменою —
не о том ли… О нет, не о том.
Разве родина… (нет, разумеется)
не приказывает, как земля,
умирать, а отчасти – надеяться?
То ли музыка, то ли петля —
да и я пережил её прелести,
поглотил всё печное тепло,
чтобы Керберу в чёрные челюсти
рукописное время текло
«Ночь белая бежит, а чёрная хлопочет…»
Ночь белая бежит, а чёрная хлопочет —
снежинками кружит, коньки о камень точит.
День белый недалёк, а чёрный – ляжет рядом
с седым, на потолок уставясь влажным взглядом, —
похлёбку стережёт, простуду хмелем лечит,
не мудрствует, не лжёт, воробушком щебечет.
Жестка моя кровать. Я знаю, горячо ли,
колеблясь, оплывать копеечной свечою
перед заступницей – но всякий просит чуда:
застыть, сощуриться и помолчать, покуда
в бумажных небесах окраины московской
дым стелется, дыша истомой стариковской.
«Согрели, вызвали, умыли…»
Согрели, вызвали, умыли,
отдали голос на ветру.
В каком же я родился мире?
В таком же точно, где умру,
где солнце в флорентийских соснах,
телеги скорбные гремят
и в твёрдых толщах рудоносных
горчат кровавик и гранат.
Зачем (другим досталось, нищим,
спасенье) мы с тобой, душа,
по переулкам пыльным ищем
огонь из звёздного ковша?
Там резеда, там мало света,
под крышей горлицы дрожат,
и письма, ждущие ответа,
в почтовом ящике лежат.
И с каждым каменным приливом
волну воздушную несёт
к мятущимся, но молчаливым
жильцам простуженных высот.
«В тщетном поиске рифмы к Некрасову, в честной бедности дар свой виня…»
Елене Игнатовой
В тщетном поиске рифмы к Некрасову,
в честной бедности дар свой виня,
погляди в интернете «саврасого» —
не художника, просто коня —
мигом выйдет война партизанская,
талый снег да родильницы стон,
пожилая лошадка крестьянская
с чёрной гривой и жидким хвостом.
А по Лиговке пьяные писари
ходят-бродят, шатаясь, ложась,
как на родине водится исстари,
в придорожную мягкую грязь,
и храпят по казармам рабочие
(руки-крюки, колтун в волосах),
и пружинка скрипит в позолоченных,
недешёвых карманных часах.
Леденец прохладительный – за щеку.
Что за шум? Не свергают ли власть?
Заговорщика дворник с приказчиком
волокут в полицейскую часть.
То кричат ему: «Накося-выкуси!»,
то – в лицо кулаками! Еврей,
из студентов. Ах, сколько же дикости
в нашем тёмном народе, Андрей!
До сих пор ли, глухая кормилица,
Интервал:
Закладка: