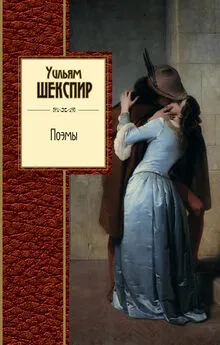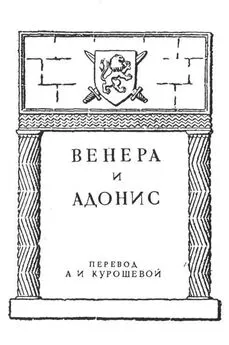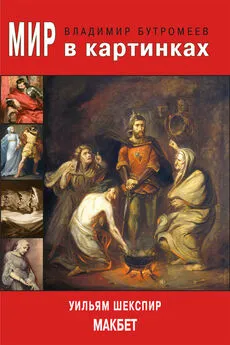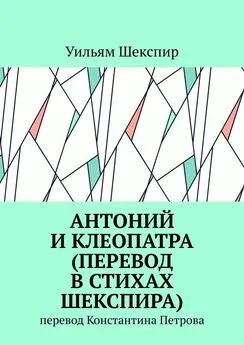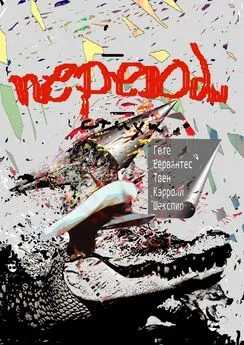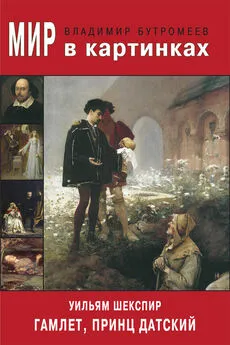Уильям Шекспир - Поэмы
- Название:Поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Шекспир - Поэмы краткое содержание
Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах. «Лукреция» также имела немалый успех у читателя, в основу поэмы положен сюжет из древнеримской истории, описанный Титом Ливием и Овидием, пересказанный Дж. Чосером в «Легендах о добрых женах».
Дискуссии вокруг сонетов Уильяма Шекспира до сих пор не утихают: действительно ли сонеты автобиографичны? Существовал ли любовный треугольник, о котором говорится в сонетах 133, 134 и 144? Кто был прототипом Друга и Смуглой дамы?
В дополнение вошли четыре эссе переводчика Г. М. Кружкова, посвященные интригующим и не до конца проясненным вопросам, касающимся поэм Шекспира и его сонетов.
Поэмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этими сведениями об истории переводов Пастернака я ограничусь и обращусь к текстам. Начну с шестьдесят шестого сонета. На тот момент (1938 год) существовало несколько дореволюционных переводов, среди которых можно отметить, пожалуй, лишь перевод Владимира Бенедиктова, в котором местами узнается пафос переводчика «Пира победителей» Барбье.
Я жизнью утомлен, и смерть – моя мечта.
Что вижу я кругом? Насмешками покрыта,
Проголодалась честь, в изгнанье правота,
Корысть – прославлена, неправда – знаменита.
Где добродетели святая красота?
Пошла в распутный дом: ей нет иного сбыта!..
А сила где была последняя – и та
Среди слепой грозы параличом разбита.
Искусство сметено со сцены помелом:
Безумье кафедрой владеет. Праздник адский!
Добро ограблено разбойническим злом;
На истину давно надет колпак дурацкий.
Хотел бы умереть; но друга моего
Мне в этом мире жаль оставить одного.
Кроме того, имелся новый перевод Осипа Румера:
Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.
Когда б не ты, любовь моя, давно бы
Искал я отдыха под сенью гроба.
В целом, это вполне достойный перевод. Сомнение вызывают лишь строки 11–12: «лапы Зла» какие-то мелодраматические, «мучительно томится» – масло масленое , и какой резон, кроме накрутки лишних слогов, в этой словесной параболе: «Всё то, что называем мы Добром» (вместо просто «добра»)? Да и последние две строки слабоваты: в оригинале сонет кончается угрозой разлуки: ‘Save that, to die, I leave my love alone’ , а у Румера – «отдыхом под сенью гроба».
Перевод С. Маршака был сделан значительно позже, в 1947 году. Увы, в нем не задалось буквально всё – от первой строки «Я смерть зову. Мне видеть невтерпеж…» – до последней: «Но как тебя оставить, милый друг?». И «невтерпеж», и «мерзостно», и «милый друг» – речения, которых именно в этом контексте лучше было избежать, и уж совсем какофонией звучит сочетание их в одном сонете.
Здесь я хочу решительно отстраниться от критиков, свирепо нападающих на Маршака, отвергающих его Шекспира вообще. Среди них не только переводчики, одарившие мир собственными вариантами сонетов и, естественно, заинтересованные в посрамлении знаменитого конкурента. Есть и другие – в том числе, например, Юрий Карабчиевский, – честные и тонкие, говорящие массу верных вещей, но склонные при этом к слишком резким обобщениям [77].
Приведу однако отзыв одного из лучших критиков русского зарубежья строгого и беспристрастного Владимира Вейдле, который в 1960 году в Париже писал о сонетах Шекспира в переводе Маршака: «Все они переведены прекрасно, и совершенно однородным образом. Поэтику Шекспира переводчик упростил, но никакого насилия над ней не произвел; сохранил главное, пожертвовал сравнительно второстепенным. Русский же его поэтический язык, необыкновенно гибкий, остается всегда естественным и проявляет певучую плавность, которую никак не смешаешь с безличной гладкостью. Переведен им Шекспир, хоть и менее счастливо, чем им же переведенный Бёрнс, но позволительно все-таки сказать – как нельзя лучше. Большего требовать – по сю сторону чуда – нельзя» [78].
В целом, я согласен с этой оценкой. Однако в большой работе невозможно достигнуть абсолютно ровного уровня; неизбежно что-то выйдет лучше, что-то хуже – это закон. И приходится только пожалеть, что в замечательной работе Маршака таким неудачным местом (по сути, провалом) стал 66-й сонет – знаменитый Шестьдесят Шестой.
В эпоху сталинской деспотии это стихотворение звучало, по меньшей мере, вызывающе [79]. Вообразим себе: на дворе тот самый 1938 год. Трудно представить себе лучшую акустику для этих четырнадцати шекспировских строк. И Пастернак не упустил случая высказаться в полный голос против окружающей его «злобы дня»:
Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.
Первое, на что обращаешь внимание, – динамизм, мощный накат строк. Ни в оригинале, ни в одном из других переводов нет такого количества глаголов, как у Пастернака; целых 19 на 14 строк (не считая деепричастий и причастий)!
Во-вторых, важно, что, в отличие от перевода Осипа Румера, также построенного на глаголах, здесь анафорой, то есть повторяющимся союзом, сшивающей строки сонета в единое целое, служит не громоздкое «как», а более легкое и динамичное «и», придающее тексту оттенок библейской пророческой риторики.
В-третьих, сравнивая перевод с оригиналом, легко заметить, что одно английское слово to behold («видеть») расщепляется в переводе на пять. Если прочесть русский сонет по инфинитивам, образующим его грамматический каркас, получится: «Тоска смотреть… и наблюдать… и знать… и видеть… и вспоминать…» Этот выверенный ряд глаголов, относящихся к наречию «тоска», раз за разом обновляет свежесть восприятия, варьируя его психологический оттенок.
Но самой оригинальной чертой, отличающей перевод Пастернака от других переводов того же сонета, является необычная густота просторечных оборотов и идиом. «Тоска смотреть», «мается», «попадать впросак», «лезет в свет», «катится ко дну», «ходу нет», «заткнуть рот», «слывет» и так далее. Здесь уже, как у Крылова, стирается грань между использованием народного речения и созданием нового. Я имею в виду, например, такие отчеканенные формулы, просящиеся в словарь поговорок, как «прямодушье простотой слывет», «доброта прислуживает злу».
Этим густым поговорочно-просторечным языком достигается удивительный эффект. Приговор времени выносится не от лица поэта как одной выделенной индивидуальности, но словно от имени самого народа, носителя языка, от имени выразившихся в языке народного опыта, народного нравственного инстинкта. Это, конечно, «толстовское» в Пастернаке, это главная триада его зрелого творчества: язык – народ – совесть.
Неповторимый стиль Пастернака, узнаваемость его переводов – то, что часто ставят ему в вину. «По когтям узнают льва». Эти «когти» Пастернака – сила и органичность его переводных стихов, их полнозвучие и укорененность – не в литературном, очищенном, а в великорусском, «далевском» языке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: