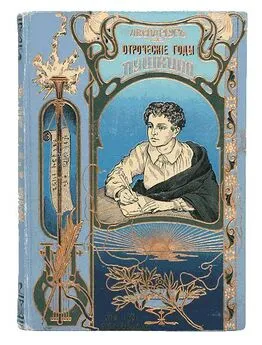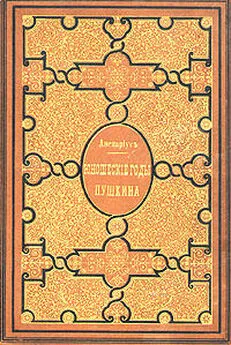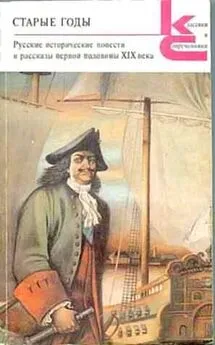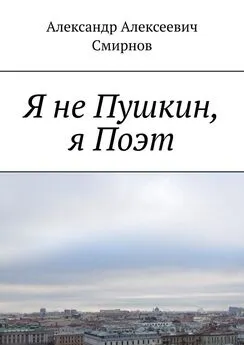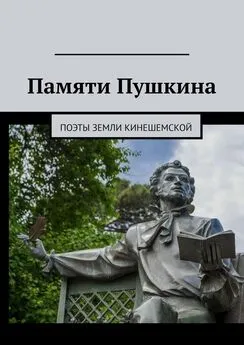Василий Пушкин - Поэты 1790–1810-х годов
- Название:Поэты 1790–1810-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1971
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Пушкин - Поэты 1790–1810-х годов краткое содержание
Сборник «Поэты 1790–1810-х годов» знакомит читателей с одним из самых сложных и интересных периодов в истории развития отечественной поэзии. В сборнике представлены объединения (Общество друзей словесных наук, Дружеское литературное общество, «Беседа любителей русского слова» и др.), в которых сосредоточивалась в основном литературная жизнь Москвы и Петербурга. Сюда вошли поэты, чье творчество, составлявшее литературный «фон» эпохи, вызывало когда-то ожесточенные споры, бурную полемику (С. С. Бобров, А. Ф. Воейков, Андр. И. Тургенев, Д. И. Хвостов, П. И. Шаликов, А. С. Шишков, С. А. Ширинский-Шихматов, В. Л. Пушкин и др.). В силу целого ряда исторических причин они были забыты последующими поколениями, и сейчас, спустя более чем полтора столетия, вниманию читателя предлагаются произведения, извлеченные из старых собраний сочинений, журнальных комплектов и, в значительной части, рукописных фондов.
Знакомство с поэзией не только в ее вершинных проявлениях, но и в массовом развитии позволяет восстановить историческую реальность и аромат русской культуры конца XVIII — начала XIX века.
Поэты 1790–1810-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
130
А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, т. 1, Берлин — Прага, 1870, с. 93.
131
См. об этом: Ю. Н. Тынянов, Архаисты и Пушкин. — В кн.: Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники, М., 1968; Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, Саратов, 1946.
132
Суворов за некоторое смелое противуречие императору Павлу Первому отозван был от войска и сослан в село свое Кончанское Новгородской губернии в Боровицком уезде. «Там (говорит о нем жизнеописатель его Фукс) часто победоносная рука его звоном колокола призывала жителей в священный храм, где старец сей, исполненный веры, пел вместе с церковными служителями хвалы божеству». Когда потом Павел Первый, по просьбе Австрийского императора прислать к нему Суворова для принятия верховного повелительства над войсками, призвал его к себе и, посылая с ним также и свои против французов войска, произнес к нему сии достопамятные слова: «Иди спасать царей»; тогда Суворов, отправляясь в путь, сказал: «Я пел басом, а теперь еду петь барсом».
133
Он имел привычку для укрепления членов своих часто обливаться холодною водою.
134
Ахиллес.
135
См. в Илиаде описание Ахиллесова щита, коней и колесницы.
136
Он не щеголял красивостию и борзостию коня своего: садился на простую козацкую лошадь и на ней с плетью в руке, называемою нагайкою, разъезжал по полкам.
137
Он не мог сносить летних жаров, и потому (если не по особой любимой им необычайности) часто среди самого пылкого сражения видали его скачущего верхом в одной рубахе; но никогда не скидывал он с головы своей шлема, в котором даже дома и при женщинах хаживал.
138
Известен славный переход его чрез Альпийские горы.
139
Варшаву, Медиолан, Турин и проч. Он не любил великолепия и пышности; жил всегда в простых покоях, без зеркал и без всяких украшений. В пище наблюдал умеренность. Дворецкому своему приказывал насильно отнимать у него блюды, и жаловался всем, что он ему есть не дает.
140
Суворов, когда надлежало идти в поход, никогда в приказах своих не назначал часу, в которой выступать; но всегда приказывал быть готовыми по первым петухам; для того выучился петь по-петушьи, и когда время наставало идти, то выходил он сам и крикивал: кокореку! Голос его немедленно разносился повсюду, и войско тотчас поднималось и выступало в поход. Казалось, он нарочно придумывал сии странности, дабы посредством их избавляться иногда от таких переговоров и объяснений, которые были для него или неприятны или затруднительны. Он не опасался ими затмить славу свою; ибо мог сказать о себе подобное тому, что в Метастазиевой опере говорит о себе Ахиллес, проведший отроческие лета свои в женском одеянии на острове Сциросе:
…………………gli ozj di Sciro
scuserà questa spada, e forse tanto
occuperò la fama
co’novelli trofei,
che parlar non potrà de’falli miei,
то есть:
«Праздность проведенных мною на Сциросе дней оправдаю я сим моим мечом, и может быть, новыми победами столько озабочу славу, что не успеет она говорить о моих проступках». — В присылаемых донесениях Суворов не описывал побед своих пространными объяснениями. По взятии турецкой крепости Туртукая, он написал к императрице:
Слава богу, слава Вам,
Туртукай взят, и я там.
141
Известно, что Суворов белое оружие, то есть штыки, в руках русских воинов почитал всегда средством превосходнейшим к побеждению неприятеля, чем ядра и пули. Пословица его была: «Пуля дура, штык молодец».
142
В Италии, когда он въезжал в какой город, народ выбегал навстречу к нему, отпрягал лошадей у его кареты и вез его на себе. Однажды случилось, что в самое то время, когда он приближался к освобожденному им от французов городу, нагнал его посланный из Петербурга с письмами к нему офицер. Он посадил его в свою карету, и когда народ выбежал и повез его на себе, то он, улыбнувшись, спросил у офицера: «Случалось ли тебе ездить на людях?» Офицер с такою же улыбкою отвечал ему: «Случалось, ваша светлость, когда, бывало, в робячестве игрывал шехардою».
143
Он часто едал с ними кашицу.
144
Баварский король причислил его в свои родственники.
145
Российский генералиссимус и Австрийский фельдмаршал, имевший два почетных прозвания: Рымникский и Италийский.
146
Он не любил мягких перин и пуховиков; сено и солома служили ему вместо оных.
147
Список недорослям из дворян, определенным в Морской шляхетный кадетский корпус в кадеты. — Центральный государственный архив Военно-Морского Флота в Ленинграде.
148
Слуга мой.
149
ПД, архив Д. И. Хвостова.
150
«Приятное и полезное препровождение времени», 1795, ч. 7, с. 189.
151
Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1860, с. 379.
152
Яков Борисович Княжнин женат был на дочери основателя российского театра А. П. Сумарокова. Мы скажем только, что сей достойный наследник творца «Семиры» украсил российский театр такими творениями, которые как ныне, так и долго будут у нас в числе хороших произведений. Примечания при сем «Послании» касаются именно до сочинителей, которые, склеивая из разных лоскутков свои произведения, выдают их под своим именем, а не до переводчиков. Переводчики, обязываясь представить чужие мысли, должны их перелить в формы, приличные свойствам и оборотам того языка, на который переводят. И это не малое достоинство. Делиль, французский последнего времени писатель, будет в потомстве знаменит по переводу своему Вергилиевых «Георгик».
153
Автор не разумеет здесь того, чтобы трагический творец в изображении лиц списывал самого себя, но желает изобразить то высокое подражание чужим страстям, которое писатель по сильному воображению и чувствам приписывает лицам своим, гнушаясь теми холодными подражателями, кои только списывают чужие мысли и слова и кои в горниле разума и чувств не сотворяют. См. «Послание о Притче».
154
Много на французском театре трагедий под именем Ифигении, которых более ни читают, ни играют. «Ифигения в Авлиде» г, Расина, о которой здесь речь, уже царствует на театрах всей Европы более полутораста лет. Расин во многих своих сочинениях подражал древним; в «Ифигении» же особенно Эврипиду. Содержание у обоих одно, и различается только развязкою. У Эврипида богиня лесов, подвигнутая сожалением к бедственному жребию добродетельной дочери Агамемнона, ниспускается на алтарь в минуту жертвоприношения, похищает царевну, переносит ее в Тавриду и вместо оной оставляет молодую лань на жертвеннике. Расин, напротив того, основываясь на повествованиях Павзания, вымышляет новое лице — Эрифиль, над которой и совершается участь, приуготовленная Ифигении. Ифигения приводится к алтарю, многочисленное войско ахейское с нетерпением желает узреть смерть царевны и умилостивление богов, как внезапно Ахилл, распаленный гневом и любовию, вспомоществуемый Патроклом, вторгается в толпы устрашенных греков, достигает своей возлюбленной и предает ее в защиту бесстрашных друзей своих… Начинается битва, свистят стрелы, течет кровь; но верховный жрец с мрачным челом и взорами, как бы вдохновенный небом, предстает посреди сражения, успокаивает Ахилла, и именем говорящего его устами Оракула объявляет, что боги требуют иной крови Елены, иной Ифигении, которая на берегах Авлиды должна себя принести в жертву, — это Ерифиль, плод тайного брака Тезея с Еленою. Уже Калхант, взяв ее за руку, готовится вести к алтарю, Эрифиль исторгается, подбегает к жертвеннику, схватывает священный нож и заколается. Оба сии поэта знали совершенно свойства сердца человеческого, и в различии развязки руководствовались только различием вкуса и нравов своего времени. Они знали, что смерть юной, прекрасной, добродетельной царевны, любимой столь великим героем, навлечет неудовольствие и негодование зрителей. Для избежания сего Эврипид прибегнул к чудесности, которая грекам очень нравилась; а Расин, чувствуя всю необходимость для трагедии ужаса и сожаления, выдумал новое лицо, без которого (как сам говорит в предисловии) не осмелился бы и подумать о сочинении сей трагедии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: