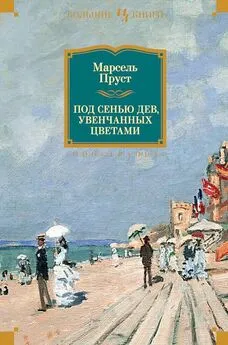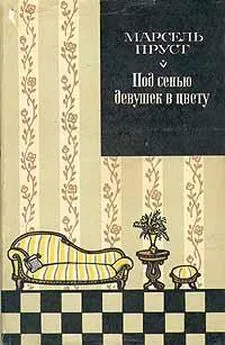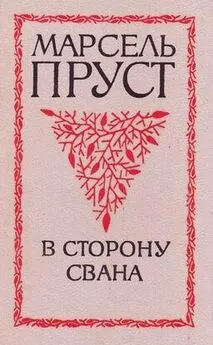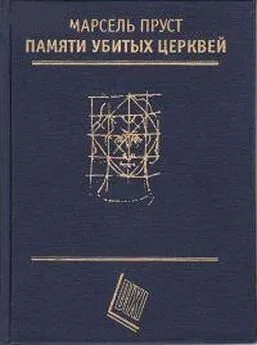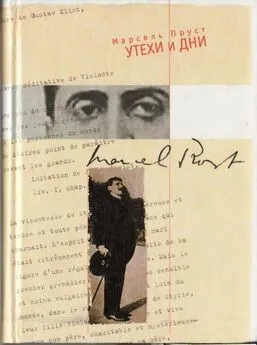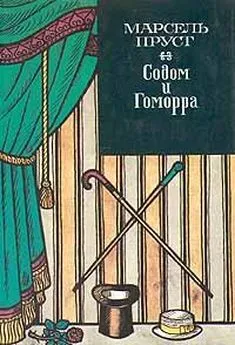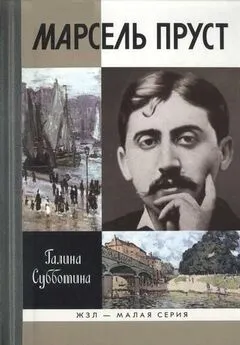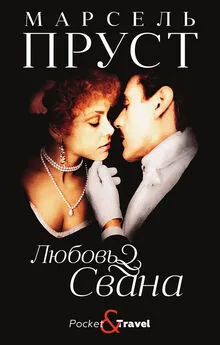Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами
- Название:Под сенью дев, увенчанных цветами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18721-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами краткое содержание
Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Под сенью дев, увенчанных цветами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Я рассказывал вам о Карктюи, — сказал он, прощаясь со мной у дверей. — Есть у меня один набросочек, на котором гораздо лучше видно обрамление пляжа. Картина тоже недурна, но там всё по-другому. С вашего позволения, на память о нашей дружбе я подарю вам этот набросок, — добавил он, потому что люди, отказывающие вам в том, чего вы желаете, взамен дают вам что-нибудь другое.
— Если у вас есть, мне бы очень хотелось получить фотографию того маленького портрета мисс Сакрипан! А что это за имя? — Это имя героини, которую моя модель играла в одной глупой оперетке. — Но уверяю вас, месье, я ее совершенно не знаю; вы как будто предполагаете обратное. — Эльстир промолчал. «А это, часом, не госпожа Сванн до замужества?» — выпалил я в одном из тех нечаянных озарений, что снисходят на нас, в общем-то, не так уж часто, но задним числом до какой-то степени оправдывают теорию предчувствий, если только дать себе труд забыть все ошибки, способные ее поколебать. Эльстир не ответил. Это был именно портрет Одетты де Креси. Ей не захотелось оставлять его у себя по многим причинам, в том числе по вполне очевидным. Но были и другие. Портрет был написан до того, как Одетта упорядочила свою внешность и превратила свое лицо и фигуру в тот образ, которого впредь на долгие годы должны были придерживаться в общих чертах парикмахеры, портные и она сама; сюда входила манера держаться, говорить, улыбаться, смотреть, думать. Только вывертом пресыщенного любовника можно объяснить, что Сванн предпочитал множеству фотографий своей прелестной жены ne varietur [269] Изменению не подлежит (лат.) .
, Одетты, маленький снимок, который держал у себя в спальне: там под соломенной шляпкой, отделанной анютиными глазками, видна была худая и в общем-то некрасивая молодая женщина с пышными волосами и усталым лицом.
Но впрочем, будь портрет сделан не в ту эпоху, что любимая фотография Сванна, не до того, как Одетта выстроила свой новый, величественный и прелестный облик, а уже потом, — взгляд Эльстира сумел бы развеять этот образ. Художественный гений действует наподобие чрезвычайно высоких температур, способных разорвать сцепление атомов и сгруппировать их в прямо противоположном порядке, так чтобы выстроился совсем другой облик. Всю эту напускную гармонию, которую женщина навязала своим чертам, незыблемость которых она проверяет каждый день, глядясь в зеркало перед уходом, — сдвигает набекрень шляпку, приглаживает волосы, добавляет лукавства взгляду, поддерживая постоянство облика, — всю эту гармонию взгляд художника мгновенно разрушает и перекомпоновывает черты женщины в согласии с определенным женским и художественным идеалом, заложенным у него внутри. А часто бывает, что начиная с какого-то возраста глаз великого исследователя везде находит элементы, необходимые для установления именно тех связей, которые его интересуют. Как работники или игроки, которые, не капризничая, довольствуются тем, что им попало под руку, такие мастера про всё говорят: годится. Так кузина принцессы Люксембургской, высокомерная красавица, пленилась когда-то новым для того времени искусством и попросила крупнейшего художника-натуралиста написать ее портрет. Глаз мастера тут же нашел то, что искал повсюду. И на холсте вместо гранд-дамы возникла девчонка на побегушках на фоне каких-то косых фиолетовых декораций, отдаленно напоминающих площадь Пигаль. Но даже без таких крайностей портрет женщины, выполненный большим мастером, ничуть не стремится потакать ее притязаниям (хотя она ради этих своих притязаний, начиная стареть, фотографируется чуть не в детских платьицах, подчеркивающих ее по-прежнему тонкую талию, так что выглядит как сестра или даже дочка собственной дочки, присутствующей тут же рядом с ней в нарочито безвкусном наряде), а наоборот, высвечивает изъяны, которые ей хотелось бы скрыть, например воспаленный или землистый цвет лица; они привлекают художника тем, что в них чувствуется «характер», но напрочь разочаровывают профана, вдребезги разбивая в его глазах тот идеальный каркас, что так гордо поддерживала женщина, каркас, хранивший ее неповторимую, неизменную форму, так подчеркивавший исключительность этой женщины, так возносивший ее надо всеми. А теперь она сброшена с небес на землю, у нее отобрали ее собственный образ, в котором она царила, сознавая свою неуязвимость, и осталась она просто женщиной, в чье превосходство мы больше уже не верим. Мы твердо знали, что этот образ составляет самую суть не только красоты какой-нибудь Одетты, но и ее личности, ее самобытности, и теперь, перед портретом, уничтожившим этот образ, нам хочется воскликнуть: «Как он ее изуродовал!» и даже: «Совсем не похоже!». Нам трудно поверить, что это она. Мы ее не узнаём. И всё же мы отчетливо ощущаем, что уже видели эту особу. Но это не Одетта; лицо, тело, весь облик этого существа хорошо нам знаком. Они напоминают нам не ту женщину, которая и держалась-то совсем по-другому, в чьей позе никогда не сквозило этой странной и вызывающей вычурности, а других, всех, кого писал Эльстир, таких разных, кого он любил располагать лицом к зрителю, и чтобы изогнутая ножка выглядывала из-под юбки, и чтобы широкополая круглая шляпа в руке, где-то на уровне колена, симметрично перекликалась с другой круглой формой — лицом. Но мало того, что гениальный портрет дробит облик, который продиктовали женщине кокетство и эгоистическое представление о красоте; если этот портрет старинный, он не просто старит оригинал так же, как фотография, — изображая ее в вышедших из моды нарядах. Не только одежда женщины подсказывает, когда был создан портрет, но и манера, в которой работал мастер. Эта первая манера Эльстира была для Одетты самой что ни на есть разоблачительной выпиской из свидетельства о рождении, не только потому, что Одетта выглядела на этом портрете младшей сестрой знаменитых кокоток (это делали и фотографии), но и потому, что сам портрет оказывался современником множества портретов Мане и Уистлера, где была запечатлена вереница моделей, ныне исчезнувших, канувших в забвение или в историю.
Такие мысли, навеянные недавним открытием о том, кто послужил Эльстиру моделью, перебирал я в уме, провожая его домой, как вдруг следом за этим первым открытием меня осенило второе, смутившее меня еще больше: я догадался, кто такой сам художник. Он написал портрет Одетты де Креси. Неужели этот гений, мудрец, отшельник, философ, блестящий собеседник — тот самый нелепый и безнравственный живописец, которого когда-то пригрели Вердюрены? Я спросил у него, не был ли он с ними знаком и не называли ли они его прозвищем г-н Биш. Он подтвердил, что так и есть, не смущаясь, словно речь шла о давно минувшей полосе его существования, и как будто не догадываясь, как я буду разочарован, но подняв взгляд, он прочел это у меня в лице. Он недовольно нахмурился. Мы уже почти пришли, и человек не столь выдающегося ума и сердца попрощался бы со мной, вероятно, прохладно и постарался больше со мной не встречаться. Но не так обошелся со мной Эльстир; он был воистину мэтром, то есть и мастером, и учителем (с точки зрения чистого творчества, быть может, это было его единственным недостатком: чтобы ни в чем не отступаться от правды своей духовной жизни, художник должен быть один и не растрачивать себя даже на учеников), и изо всех обстоятельств, касавшихся его или других, старался извлечь в поучение молодежи заложенную в них долю истины. Вместо того чтобы ответить мне ударом на удар, нанесенный его самолюбию, он нашел слова, которые могли меня чему-то научить. «Нет такого мудреца, — сказал он, — кто бы в молодости не произносил речей или не совершал поступков, о которых потом ему не захочется вспоминать и которые он рад был бы стереть из памяти. Но об этом совершенно не нужно жалеть, ведь нельзя достичь мудрости — насколько это вообще возможно — если сперва не пройдешь через все нелепые или отвратительные воплощения, предшествующие этому, последнему. Я знаю, некоторым молодым людям, сыновьям и внукам выдающихся людей, воспитатели со школьной скамьи привили благородство духа и душевную деликатность. Вероятно, этим юношам нечего вычеркивать из своей жизни, они могли бы обнародовать за своей подписью всё, что сказали, но они ведь нищие духом, бессильные потомки доктринёров, и мудрость их — бесплодная мудрость отрицания. Мудрости нельзя научить, к ней можно прийти только самостоятельно, и никто не может проделать за нас этот путь, не может нас от него избавить, потому что мудрость — это точка зрения на всё вокруг. Те жизни, которыми вы восхищаетесь, то поведение, что представляется вам благородным, не были предначертаны отцом семейства или наставником, им предшествовали совершенно другие начальные шаги, совершенные под влиянием зла и пошлости, царящих вокруг. Каждая такая жизнь — борьба и победа. Я понимаю: трудно признать нас в тех, какими мы были в начале жизни, и зрелище это не из приятных. Но отворачиваться от него нельзя: оно подтверждает, что мы в самом деле жили, что по законам жизни и разума мы извлекли из обыденности мастерских и художественных кружков, если речь идет о живописце, какой-то опыт, который всё это превосходит». Мы уже подошли к дверям. Я был разочарован, что не познакомился с девушками. И все-таки теперь у меня появилась возможность встретиться с ними на самом деле: они перестали быть силуэтами на фоне горизонта, о которых я каждый раз думал, что больше их не увижу. Меня уже не отделял от них бушующий водоворот, который на самом деле был просто проявлением неуемного влечения, изменчивого, настойчивого, вечно подогревавшегося тревогой, терзавшей меня из-за того, что они были так недосягаемы, что они вот-вот ускользнут навсегда. Я мог теперь дать передышку этому влечению, отложить его про запас вместе со множеством других, которым последую, как только почувствую, что пришло время. Я распрощался с Эльстиром и остался один. И тут вдруг, несмотря на всё разочарование, я мысленно вернулся ко всем совпадениям, о которых и не подозревал раньше: что Эльстир дружит с девушками, что еще сегодня утром они были для меня просто фигурками на картине с морем на заднем плане, а теперь они меня видели, видели в компании великого художника, и сам он знает теперь, как я хочу с ними познакомиться, и непременно мне поможет. Всё это меня радовало, но я не замечал этой радости: она была словно гостья, которая ждет, чтобы разошлись все остальные приглашенные, чтобы мы остались одни, и вот тогда она объявит о своем приходе. И тут мы ее заметим, скажем: «Я всецело в вашем распоряжении» и выслушаем, что она скажет. Иногда между появлением подобных радостей и моментом, когда мы сами приходим в себя, проходит столько часов, за которые мы успеваем повидать столько людей, что мы боимся, как бы радости не ушли, не дождавшись. Но они терпеливы, они не знают усталости, и как только все разошлись, они тут как тут. Но иной раз мы сами так устали, что кажется, нашему изнемогающему мозгу недостанет сил удержать эти воспоминания, эти впечатления, а ведь единственное место, где они могут жить и быть самими собой, — это наше хрупкое «я». И мы об этом жалеем, потому что существованье представляет для нас интерес только в те дни, когда пыль повседневности перемешана с волшебным песком, когда любое обыденное событие становится началом романтического приключения. И тогда в лучах мечты перед нами вырастает первый отрог недостижимого мира и вторгается в нашу жизнь — в нашу жизнь, где мы, словно разбуженный спящий, словно халиф на час [270] …разбуженный спящий, словно халиф на час… — Сказки «Тысячи и одной ночи», так же как мемуары Сен-Симона, послужат Марселю образцом, когда он задумает написать свою книгу. Аллюзии на эти сказки проскальзывают в романе то и дело. Вот и здесь писатель сравнивает человека, в чью жизнь вошла романтическая любовь, с тем, кто пробудился ото сна; дело в том, что арабская сказка, известная в русском переводе как «Халиф на час», по-французски называется «Разбуженный спящий», поскольку в ней всевозможные приключения происходят с героем, который силой волшебства был погружен в крепкий сон, а затем пробужден, чтобы увидеть ту, которая ему суждена. Заметим, что позже героиня этой сказки переодевается юношей и в мужском обличье пытается склонить к любви своего возлюбленного, что предвещает также тему Содома и Гоморры в романе.
, видим людей, о которых так пылко мечтали, что не чаяли когда-нибудь увидеть их наяву.
Интервал:
Закладка: